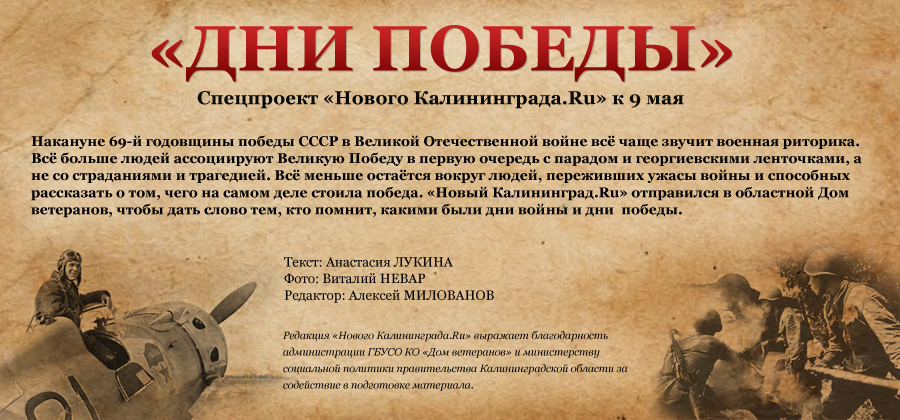
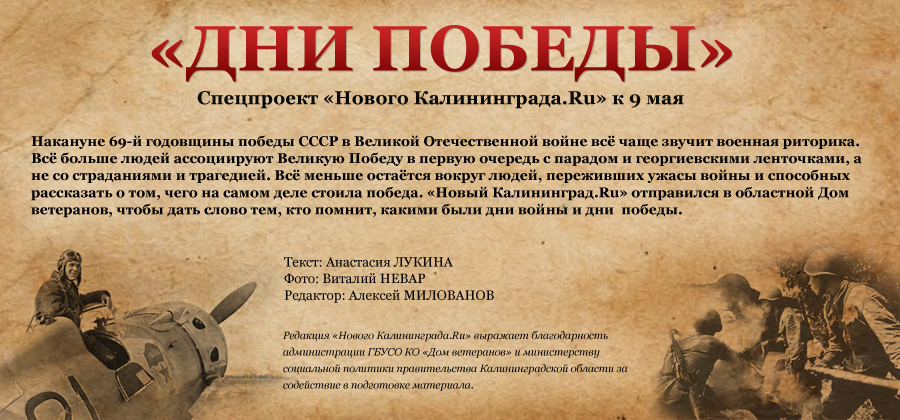
Я, значит, пришел домой, деду новость рассказал. Он мне сразу тогда сказал, что если германец пошел, то с ним придется побороться и так просто не пойдет. Тут же стали набирать в отряд на оборонительные работы под Ленинградом. Я-то со своим ростом и возрастом никуда не подходил. Но попросился я хорошенько, и меня взяли. Нас бросили под Лугу, там мы копали противотанковые рвы. Норма была аховая — погонный метр в день на человека. 10 человек — 10 метров этого рва, пока не выкопаешь — не уйдешь. Я потом подсчитал: это около 12 кубометров, причем последние кубометры надо было раз или два раза перекидывать, потому что там была три метра глубина.
 Вот на этих тогда еще детских ручонках были сплошные мозоли. Кормили, правда, тогда еще ничего, потому что колхозы, совхозы готовились уезжать, эвакуироваться, и нам кое-какую еду подбрасывали. И мы ковырялись там до тех пор, пока немец не окружил нас. Нас ночью 8 рот лесами-болотами вывели на станцию Толмачево и отправили на Невскую Дубровку — это печально знаменитый Невский пятачок. Немец уже окружил город, и вот, чтобы прорвать кольцо, наши высадили десант, форсировали Неву, захватили пятачок. 4 километра шириной и 800 метров глубиной. На этом пятачке бывали случаи, когда было по 7 дивизий. А дивизия — по 14 тысяч человек. Там просто не было места, куда бы не упал снаряд и не ранил бы кого-нибудь. Это была кровоточащая рана.
Вот на этих тогда еще детских ручонках были сплошные мозоли. Кормили, правда, тогда еще ничего, потому что колхозы, совхозы готовились уезжать, эвакуироваться, и нам кое-какую еду подбрасывали. И мы ковырялись там до тех пор, пока немец не окружил нас. Нас ночью 8 рот лесами-болотами вывели на станцию Толмачево и отправили на Невскую Дубровку — это печально знаменитый Невский пятачок. Немец уже окружил город, и вот, чтобы прорвать кольцо, наши высадили десант, форсировали Неву, захватили пятачок. 4 километра шириной и 800 метров глубиной. На этом пятачке бывали случаи, когда было по 7 дивизий. А дивизия — по 14 тысяч человек. Там просто не было места, куда бы не упал снаряд и не ранил бы кого-нибудь. Это была кровоточащая рана.
Мы там ковыряли уже не противотанковые рвы, а окопы, огневые точки. Такие мелкие работы. Но кормить, правда, стали плохо — 250 граммов хлеба. Хлеб, который хлебом не пах. Ну и суп фасолевый давали, если две фасолины в нем поймаешь — счастливчик.
Долго мы так не протянули, стали дистрофиками. Нас начали вывозить на «большую землю» по Дороге жизни. А это страшная дорога.
Перебрались мы на ту сторону, на «большую землю», как говорили . Ну и все сразу стали искать получше дом, чтобы хоть чем-то нас покормили. Приходим, хозяйка нас так хорошо встретила, налила чайку и сухарей дала. А сухари откуда у них? Вот эти баржи, что шли в Ленинград, немцы бомбили. А там были мешки с мукой, и они плавали. А жители на Ладоге их ловили баграми и сухари сушили.
Сухарей у хозяйки было много. Я вообще-то знал, что нельзя наедаться, но не остановиться было никак. Сколько мог, столько выдержал. И я всю ночь крутился-вертелся, заворот кишок был. Но мой молодой организм все-таки справился. Но на хлеб потом даже не смотрел, несмотря ни на что.
И потом надо было идти. Тихвин немцы взяли, то есть железной дороги уже не было. И мы в обход Тихвина пошли. А питательные пункты через 10—13 километров были. Я не знаю, сколько я шел и как я не замерз там, ведь это был 40-градусный мороз. Вышли мы на железнодорожную станцию. Там формируют составы теплушек. Я ноги отморозил, поэтому в первый эшелон я и не старался садиться. И, кстати, хорошо, что не сел. Немцы бомбили, обстреливали с пулемета. И когда мы проезжали, увидели, что первый эшелон горел. Нас обстреливали, но я такой слабенький был, что не выходил. Но я все-таки соображал, что если суждено, то пуля везде найдет — и в теплушке, и в кустах. Вагон в нескольких местах был прострелен. Я жив-то остался, наверное, потому что я безбожник.
Ну вот. Добрался я до Вологды. В Вологде я пересел в теплушку к военным. Они кормили меня, ласкали. И я в 6 часов утра приехал домой в Ярославль. Стучусь, мать открывает дверь, думала, пришел солдатик какой-нибудь. Но узнала. Она-то думала, что я погиб. На самом деле, она меня несколько раз хоронила.
Дом
Она меня раздела наголо, всю мою одежку пустила в печку — все было во вшах, кишело просто. Ну, понемножку я стал отходить, и надо же было работать. Выручала эвакосправка. Когда эвакуировались, давали такую справку. В Ярославле были коммерческие магазины, где в несколько раз дороже продавался хлеб. И по этой справке я мог без очереди его покупать. И поэтому я так в магазинах трех возьму — и семья уже с хлебушком была. Но и надо было к хлебу ближе работать. А куда? На пекарне мест нет, пошел я на мелькомбинат. Там хорошие обеды и пшеничка, которую мы жарили и постоянно грызли.
А потом я еще приспособился ловить голубей. Их тучи было, и никто их не трогал, пока Тинт не приехал. Я опыт имел. Коробка, сетка, палочка, веревочка, пшеничка, дернул — и до 30 штук сразу. Головки я им хрусь-хрусь, их за пазуху. На проходной ничего, пропускали. За стакан пшеницы могли посадить, а за голубей не сажали. Принес их домой, а бабушка как понесла на меня, но не тут-то было. Я потихонечку их ощипал, выпотрошил и в чулок. Запах стоит, ммм. И бабушка сдалась. Но все потом стали повторять за мной. Когда я уходил на фронт, то их уже штук пять осталось на самой колокольне.
Опять война
Я все время ходил в военкомат и просился на фронт. Это невзирая на то, что я все видел, самое страшное. Я стоял в огромных очередях и просился на фронт. Меня разворачивали кругом, я ведь полтора метра ростом был. А потом меня вызывают в военкомат, и капитан спрашивает: «Кто ты по национальности?» — «Русский». А он мне: «Да какой ты русский? Тинт Альберт Оскарович». До войны опасно очень было писать национальность: «иностранцы» — первые кандидаты на репрессии. В общем, пристал он ко мне, признался я ему. Он спросил: «Ты на фронт просился?» Просился, говорю. Отправил он меня в эстонскую дивизию, где я 2,5 года был на передовой. Привезли нас в Чебаркуль под Челябинском. В роте, правда, только один взвод был чисто эстонский, два других — как мы. Месяца два нас учили, я стал наводчиком 82-миллиметрового миномета, в этом качестве и прошел всю войну.
Я был на передовой. Солдат там выживал в среднем семь дней. А вы слышали об армейской дружбе? Это замечательно, с одной стороны. А с другой, какая может быть дружба, когда сегодня твой друг есть, а завтра его нет? Столько их, этих друзей, осталось в земле — не сосчитать.
 Я был ранен несколько раз. Даже в госпитале лежал один раз. А мелкие ранения так вообще никто не считал. Дали нам приказ как-то взять дом, и, значит, командир роты пришел, ругается там, «взяли карабины и пошли». Ну, мы минометы побросали и пошли. Ночь, наст, снег не проваливается. Дошли совсем близко к немцам. А там изгородь была, и мы все на ней застряли, никто через нее перебраться не мог. Командиры кричат: «Вперед!» А немцы стреляют. Помню, что когда я бежал, видел какую-то ямку. Я, значит, в эту ямку упал, подстреленный ведь был. Потом смотрю, какой-то огонек ко мне приближается. Я голову поднял, слышу — траааааах — и чувствую, как кровь сильно-сильно пошла. Как оказалось, это разорвалась граната, а мне осколок от нее пробил артерию. Я никуда и не пошел, осколок вынул и вперед. Вот такие были условия.
Я был ранен несколько раз. Даже в госпитале лежал один раз. А мелкие ранения так вообще никто не считал. Дали нам приказ как-то взять дом, и, значит, командир роты пришел, ругается там, «взяли карабины и пошли». Ну, мы минометы побросали и пошли. Ночь, наст, снег не проваливается. Дошли совсем близко к немцам. А там изгородь была, и мы все на ней застряли, никто через нее перебраться не мог. Командиры кричат: «Вперед!» А немцы стреляют. Помню, что когда я бежал, видел какую-то ямку. Я, значит, в эту ямку упал, подстреленный ведь был. Потом смотрю, какой-то огонек ко мне приближается. Я голову поднял, слышу — траааааах — и чувствую, как кровь сильно-сильно пошла. Как оказалось, это разорвалась граната, а мне осколок от нее пробил артерию. Я никуда и не пошел, осколок вынул и вперед. Вот такие были условия.
Я был самый лучший наводчик основного миномета, и командир роты меня берег. Несколько раз меня звали в училище, а он меня отговаривал. Знаете, я часто задавал себе вопрос, что я чувствовал в момент боевых действий, и никогда не находил однозначного ответа. Во-первых, я еще, конечно, дурак был. Мальчишка был ведь. Я просто не представлял, что это такое, хотя все видел. Но я никак не думал, что это может случиться со мной. Никак. Вот первый раз сунули нас в бой под Великими Луками. От полка осталось 17 человек, знамя и младший лейтенант. Это же жуть как страшно. Ну нас в другой полк и перекинули. Немцы в Великих Луках тогда сильную оборону держали, а мы наступали корпусом. Зима, холод, промерзшая земля. Убитых мы хоронили в землянках.
После боя наш полк еще пополнили и отправили под Кингисепп. Там нас гоняли, конечно, жутко. Обучали по полной программе, так сказать. Учили наступать на собственное расположение части. А спустя некоторое время нас отправили на Нарву, на Синие горы. Вот там-то бои ожесточенные были, страшно вспомнить.
Был награжден я орденом Красной звезды. Конец войны помню как сейчас. Я тогда как раз только из госпиталя, в котором лежал дней сорок, в часть вернулся. Утром нам нужно было в наступление идти, а тут глубокой ночью слышу — стрельба. Я уж думал, что немцы напали, а оказалась, что война-то закончилась.
Позже стали набирать в Шую в пехотное училище. Это рядом с Ярославлем же, война закончилась, все же ближе к дому. Думал, что домой получится заскочить, но не тут-то было. Помню, как я маме записку через мальчонку передал и думал, успеет она прибежать или нет. Но она успела. Так что с мамой я встретился лишь у поезда.
Смоленскую область очень скоро оккупировали. Когда под оккупацию попал, я решил познакомиться с военнослужащими. Под Смоленском, когда немец окружил наши войска, некоторые смогли сбежать оттуда и рассредоточиться по деревням. Ну, фашист и в нашу деревушку Раковичи заглянул. Много тогда сбежало людей с окружения — солдаты, офицеры, комиссары. Бежали для того, чтобы не попасть в плен. Потому что многих убивали, а некоторых оставляли и потом гнали в лагеря в Германию.
У нас рядом с деревней была жандармерия, которая постоянно проводила проверки и отслеживала незнакомых людей в деревне. Но мы все равно принимали наших солдат, переодевали их и при проверках говорили немцам, что это родственник наш. Брат, например.
 В конце концов собрались мы все и договорились перейти обратно фронт. А чтобы пройти назад, нужно было пересечь две линии фронта — немецкую и нашу. Немецкую линию преодолевать с большим трудом приходилось, потому что враг был сильный и коварный. А у нас был четкий закон: попал в плен — ни в коем случае не должен сдаваться. А если выживешь, то тебя осудят и посадят в тюрьму как предателя. Даже если ты раненый и тебя немцы без сознания забрали, ты не имеешь никакого права остаться в живых. А как так? Руки-то сам на себя не наложишь.
В конце концов собрались мы все и договорились перейти обратно фронт. А чтобы пройти назад, нужно было пересечь две линии фронта — немецкую и нашу. Немецкую линию преодолевать с большим трудом приходилось, потому что враг был сильный и коварный. А у нас был четкий закон: попал в плен — ни в коем случае не должен сдаваться. А если выживешь, то тебя осудят и посадят в тюрьму как предателя. Даже если ты раненый и тебя немцы без сознания забрали, ты не имеешь никакого права остаться в живых. А как так? Руки-то сам на себя не наложишь.
Через какое-то время у нас организовался наш маленький партизанский отряд. Председателем выдвинули Ивана Ефимова, потому что он хорошо знал немецкий язык. Перед нами стояла задача либо перейти границу, либо вступить в какие-нибудь большие партизанские отряды. Но так как немцев туча была, конечно, мы партизан не встретили никаких. Связи у нас не было, двигаться нельзя было, поскольку проходили постоянные проверки со стороны фашистов. Было очень опасно, потому что они были слишком обозленными. Недалеко от нас была Ельня, там все время проходили тяжелые бои. Немцы же на Москву шли, а наши не давали этого сделать. У нас ни оружия не было, ни питания, ни одежды. Ничего не было.
Мы жили с матерью вдвоем, отец мой погиб, когда мне всего два годика было. А я был проворным мальчишкой. Мы везде бегали с пацанами и не боялись даже никого, потому что дети были. Бегали, на нас внимания особого немцы не обращали. А мы все, что разведаем, докладываем партизанам. Для того чтобы хоть как-то помочь, я бегал и подбирал оружие.
ТюрьмаМать ездила часто, все лелеяла себя надеждой меня увидеть. А они ни в какую, не пускали и все. А как-то раз она умудрилась договориться с полицаем Боровиковым. Все, что она приносила, всегда отдавала ему. И однажды он все-таки разрешил нам встретиться и сделал вид,что забыл про нас. Ну мы с матерью, воспользовавшись случаем, домой и удрали.
Начался 1943 год. В общем, не решились наши ничего сделать. Командир сказал: «Куда мы пойдем, нам нельзя даже в бой вступать. Нет оружия, боеприпасов. Будем ждать, когда фронт придет». Ну а фронт от Москвы уже отступал к нашей области. Стали мы ждать. Через время освободили Смоленск, затем — нашу территорию. Когда немцы отступали, они многих людей с деревни в Германию за собой угнали. Кое-кто остался живой, а многие погибали в пути. Немцы-то жестокие были. Если кто в пути отставал, их сразу отстреливали.
 «Отличник армии»
«Отличник армии»
Да, по возрасту я был невелик, зато шустрый такой был. Сказали мне немного подождать, надо было ведь народное хозяйство после немца восстанавливать.
Дома я побыл недолго. Уже в феврале меня призвал районный военкомат в армию. Направили меня в город Молотов. Леса там такие большие были. Учили меня на младшего командира, так как кое в чем я уже разбирался. Когда в нашей деревне стояла польская армия, которая была за немцев, я все присматривал за ними, наблюдал. А они минометчики были. Так что кое-что я изучил. Попал я в 45-й полк. Программа там была общевойсковая, учили всему. Недоучился я там один месяц, как нас отправили на фронт. Но так как я был отличником Советской армии, меня хотели оставить и не пускать на фронт. Но я не остался, мне же тоже хотелось воевать.
Помню, как другие даже делали самострелы, чтобы их только отправили воевать. Очень они меня не хотели на фронт кидать, под каким только предлогом меня ни пытались оставить. Делали уклон на то, что нет обмундирования, обуви. Предложили, значит, мне 43-й размер ботинок, а они мне большие. Я уперся, сказал, что пусть дают что хотят, потому что я все равно на фронт пойду. В общем, отправили меня все-таки, попал на 1-й Украинский фронт.
 На фронте
На фронте
После пополнения пошли мы на Краков. Заняли мы его быстро, а потом направились на Сандомирский плацдарм. Это был очень важный пункт, поскольку там сходились реки, автомобильные и железные дороги. А там уже были сгруппированы танковые и пехотные части. Этот район считался очень опасным. Помню это наступление. Мы с напарником шли вперед, он с пулеметом, а я рядом — с карабином. И вдруг ему попал снаряд прям в замок пулемета. Весь живот и кишки разорвало. Он там и остался.
Людей не хватало. Как только пойдем в бой, возвращаются единицы. Смотришь, а через 10 метров по разным сторонам мертвые солдатики лежат. Глянешь на них и, от страху не опуская глаз, вперед бежишь. Только вперед!
Как только темно становилось, нас, как обычно, останавливали. Мы окапывались, траншеи делали. Только легли мы, а тут команда «В бой!». Было страшно очень, даже с окопа. Некоторые от страха вылезти не могут. Командир в окоп запрыгивает и кричит: «Ты что ж отстаешь? Кто за тебя Родину будет защищать?» Ну, солдаты вылазили и бежали догонять. А мы не должны останавливаться.
Один раз мы даже заняли позицию на кладбище. Тоже было кошмарно страшно. Представь: могилки там, ночь и мы. Окапываться нам пришлось на кладбище прямо. Страшно было. А ночью нас обеспечивали боеприпасами и давали пополнение. Потому что как только в бой пойдем, так сразу огромные потери. Дождались мы утречка, и тут команда «Вперед!».
В Польше тогда непогода была. А нам даже обогреться не разрешали. Командиры нас укладывали прямо на пол, кое-что подстилали, чтобы не на землю ложиться. Одну шинель расстилали и ложились спинами друг к другу, сверху накрывались другой. А утречком встали, а нас снегом завеяло. Командиры только иногда заходили в квартиры для того, чтобы чай попить.
А если кто-то из наших совершил какое-то мародерство, то сразу расстреливали. У нас существовал так называемый «СМЕРШ». Это три человека, которые принимали решения в таких ситуациях. Совершил преступление — расстреляют, несмотря на звание.
Однажды наша дивизия попала в засаду. Мы как-то зашли в лесочек. Видим, немцы везде. А наши солдатики в лесок бегут. Ну, и я туда же. Прибежал, а там больше 10 человек. Оказалось, что там солдаты-нацмены: туркмены, узбеки. Они были назначены как истребители танков.
 Оказался там парень с нашего полка, только с другого батальона, который решал, как нужно уйти. Немцы уже впереди были, а мы за их линией и при этом в лесочке. Он водил нас, водил до полуночи. А нас везде простреливают. Наверное, заметили немцы, что туда сбежались солдаты. Но заходить в лес тоже побаивались. Полночи мы ходили, и этот парень сказал, что ничего не может сделать, и отказался нам помогать. А остальные солдаты побросали свое оружие, стали орать, выть, намеревались попасть в плен. А я уже на тот момент комсомольцем был. Да, страшно, конечно, было. В плен попадешь — там несладко, домой вернешься — тюрьма. И я не бросил свое оружие. Меня же принимали в комсомол прямо на фронте, прямо в окопах на передовой. Думаю: ну как же так? Я же только давал слово. Поскольку я был пулеметчиком, я хорошо знал пулеметы по звуку. Я их повел, но они не хотели идти. Ну, тогда я им и пригрозил, что буду стрелять. Вывел я их. Нас сразу командование встретило. Кто был с оружием, сразу в строй пошел, а остальных отдельно погнали.
Оказался там парень с нашего полка, только с другого батальона, который решал, как нужно уйти. Немцы уже впереди были, а мы за их линией и при этом в лесочке. Он водил нас, водил до полуночи. А нас везде простреливают. Наверное, заметили немцы, что туда сбежались солдаты. Но заходить в лес тоже побаивались. Полночи мы ходили, и этот парень сказал, что ничего не может сделать, и отказался нам помогать. А остальные солдаты побросали свое оружие, стали орать, выть, намеревались попасть в плен. А я уже на тот момент комсомольцем был. Да, страшно, конечно, было. В плен попадешь — там несладко, домой вернешься — тюрьма. И я не бросил свое оружие. Меня же принимали в комсомол прямо на фронте, прямо в окопах на передовой. Думаю: ну как же так? Я же только давал слово. Поскольку я был пулеметчиком, я хорошо знал пулеметы по звуку. Я их повел, но они не хотели идти. Ну, тогда я им и пригрозил, что буду стрелять. Вывел я их. Нас сразу командование встретило. Кто был с оружием, сразу в строй пошел, а остальных отдельно погнали.
Через какое-то время заняли мы оборону. Правда, нам ничего не сказали и наутро приказали приготовиться в атаку. И мы выскочили в районе Потсдама. Потом нам было приказано сделать перекур, переобуться и подшить воротнички. У солдат и у командиров мода тогда была под гимнастерку или под китель подшивать беленький воротничок. Такими мы должны были в Берлин зайти, чтобы немцы видели, что мы тоже культуру знали. Правда, шинели у нас были грязные, помятые, потому что постоянно в земле да в окопах. А немцы всегда с подвалов своих выходили начищенные, наглаженные и смотрели на нас, как на дикарей. Там мы побыли, и снова команда — наступить и освободить Германию, ее южную сторону. И пошли мы по Германии, в направлении Праги. Несмотря на то, что нас уже очень мало осталось, мы пошли. Вскоре обошли Дрезден, а дальше граница ФРГ. Перешли границу Чехословакии и дошли до самой Праги. Но Прагу мы не брали, потому что это не наш участок был. Наш полк понес большие потери, и его включили в другой — минометный 49-й полк.
ПобедаВойна закончилась, когда мы были в Берлине. Не описать той радости, просто не описать. Плакали мы. Потом нас демобилизовывали. Война оголила население, работать было некому. Остались деды, которые еле-еле передвигались, и женщины. Позже поступило распоряжение отправлять демобилизованных солдат туда, откуда они были взяты. А мне идти-то некуда было, у меня все в деревне было разрушено. Хатку нашу немцы спалили. И предложил мне командир поехать в Калининградскую область. Приехали, а тут нас встречают вербовщики с предприятий. Солдаты же, контингент рабочий. И пригласили меня на судостроительный завод «Янтарь». Вот там и проработал 17 лет. А мать я позвал в Калининград, она ко мне приехала, тут и умерла.

Послали меня в 1942 году на курсы
 Призыв в армию
Призыв в армию
Как исполнилось мне 17 лет, меня сразу же и призвали в армию. А что я? Ведь винтовка выше меня была. Пацаны есть пацаны. Стрелял я хорошо, глаз был верный. Поэтому устроили меня в снайперы. Научили нас, как к полицаям относиться. Вы
У нас, у участников 1926 года рождения, был последний призыв. Больше на фронт никого не брали. И то набрали пацанов
Страшно, конечно, было. Я никому не поверю, кто говорит, что никого и ничего не боится. Дело все в том, что это неправда. Человеку свойственен страх, а тем более во время войны. Хотя я еще до призыва в армию собирался убежать на фронт с пацанами. Но что с нас
Потом я уже узнал, что призыв, который был до нас, 1925 года рождения, почти весь погиб. Молодых парней призвали в феврале 1943 и сразу кинули под Рязань. Вся молодежь, которая тогда была призвана, погибла. Я еще дома был, а
После того как нас забрали служить, мы еще три месяца болтались в роте, пока не приняли присягу. Бывало, старшина построит нас, идет и смотрит. Стригли
Служба
Служил я в пограничных войсках, в пехоте. Исходил половину Монголии. Но в боях я особенно не участвовал. Хотя свой первый бой помню. Тихий он был, очень тихий. Я ведь снайпер был, в атаку не ходил. Но со мной сложно было сражаться, снайпер хуже, чем пушка. Я всегда мог выследить врага. Все было в моей власти, я мог убить, а мог ранить, для того чтобы он жил дальше. Со мной разговор был короткий. Часто снайпер на снайпера шел. Послали тебя уничтожить точку немецкого снайпера, ты обязан его уничтожить. Я спокойный был солдат, да и служба спокойная была.
Но
Должны были мы пройти Тунляо, Мукден,
 Ты
Ты
У меня война закончилась не 9 мая, а 2 сентября. Ее я закончил в
А потом нужно было все возрождать и восстанавливать. Никто не помогал после 1945 года нам, сами все делали. А 1946 и 1947 были очень неурожайные года. А потом вроде ничего, лучше стало.
В Монголии в Ланцирике,
После меня уволили, и я на флот попал. Там 17 лет проходил на пароходах. Хочется сказать, что по злому умыслу я никого не убивал, даже немцев щадил. С меня убийца был плохой.

22 июня началась война, а мы, военнослужащие, даже не знали об этом. Мы жили в своих палатках. Не было никакого намека на трагедию. А потом объявили тревогу. Ну, тревоги-то часто у нас объявляли. Но на этот раз она была какая-то странная и немного меня насторожила. Обычно-то, когда объявляют тревогу, все собираются и начинают предпринимать какие-то меры. А тут же она затяжная какая-то была. Насторожила.
Нам сказали взять с собой все из оружия и чемоданы с личными вещами. Но ведь никто не думал, что война начнется. Мы все с собой взяли и дальше уже форсирующим маршем прошли. Прошли мы много километров, как нам приказали оставить свои чемоданы и вещи, не относящиеся к боевым действиям. Когда мы из Житомира выходили, все и оставили. А я сам про себя и думаю: «Странно все это очень». А когда мы добрались до леса, нам сообщили, что враг нарушил государственные границы, взял город Владимир-Волынский. Перед нами была поставлена четкая задача — отбросить врага на свою территорию и ждать приказа. Примечательно, что не воевать, а только ждать приказа. Такое положение было в эти дни. 22 июня ночью мы пришли в Ровно.
Приходим мы, а нас еще там обстреляли. Для меня это было дико, поскольку я считал, что это наш советский город и войны же никакой нет. С чего нас вдруг обстреливать? Мы ничего же не знали. Тем более что нарушить границы — это не значит объявить войну.
Первый бойА утром 23 июня в Ровно нам сказали о начале войны и приказали занять оборону на кладбище. Ну, если по-честному, я шел сначала героем на фронт, когда узнал, что война началась. Ну я и думаю: «А что мне страшно? Я не женат, один». Страшно мне не было совершенно. Кладбище в Ровно было расположено на пригорке. А немцы должны были внизу сбросить десант с танками и пехотой. Ну мы и залегли за гранитные плиты. Думали, что раз памятники, значит, никакая пуля не возьмет и мы будем здорово их щелкать, потому что мы же такие сильные. Но не тут-то было.
Смотрим, прилетели бомбардировщики. Мы думали, что мы будем их там стрелять и нас ничего не возьмет, а они сверху полетели на нас. Как стали нас бить! Это такой кошмар! На фронт-то я героем шел, а как бой начался, как начали стрелять, сработал инстинкт жизни, и я лег так, по-пластунски. Ранило очень много людей, а все же жить хотят, а умирать надо.
Очень были тяжело раненые солдаты. Живые трупы. Невозможно. У одного, помню, что осколками руку отрубило от плеча. Все артерии обрезаны как ножом. И кровь хлещет. Жить он не может. А он кричит: «Ой, как я хочу жить, как хочу жить!». Только он это сказал, как упал и умер.
Все испугались, конечно, стали отступать, беспорядочно так. Никто не ожидал такого нажима в этом бою. Отступали мы, отступали и Ровно оставили.
Дальше были одни кошмары. Мы же не отступали просто так, мы сопротивление большое оказывали. Старались врага не пускать. Ну их же много было, просто ужас. Как-то раз наша часть вышла в бой, прошла немного, в принципе. А при отступлении смотрим: а одного батальона уже нет. Немец же действовал методом окружения. Окружили наших ребят — и все. Наш юго-западный фронт все оборонялся и отступал. Война шла. Меня потом ранило, и я попал в госпиталь. А война все шла и шла. А Юго-Западный фронт все продолжал отступать. 6 декабря немцев от Москвы отбросили, а они ведь не остановились и пошли дальше под Сталинград, под Волгу. И наш Юго-Западный фронт стал Сталинградским фронтом.
РанениеВ бою я как-то получил ранение в ногу и попал в госпиталь на Украине в Бахмачском районе. Тогда же по закону было так: если кровь протекла, санитар должен был разрезать мои сапоги и освободить ногу. Ну, надрезал он немного мой сапог, а дальше не смог. Ему стало жалко мои сапоги. А я лежу. Он схватил, значит, два ведра, налил кипятка на станции, сунул сначала одну мою ногу, потом вторую. Ну и размочил сапоги. После этого привезли меня в госпиталь. Там лечили, уже, правда, не помню, сколько по времени лечили.
А после моего выздоровления меня отпустили из госпиталя домой на целый месяц. Вы просто не представляете, какая это радость! А обмундирование было-то какое попало, и офицерское, и солдатское — было все вместе. Я надел поскорее что было. Но я ведь домой еду, хочется чего-нибудь получше. Вспомнил я про свои сапоги, которые при ранении с меня санитар стягивал. Ну, их-то уже давно солдаты утащили. А мне достались какие-то страшные, все изорванные, некрасивые. И тут я вспомнил, что, когда санитар не мог их снять, он же их надрезал немножко. Ну я и решил, что найду их. Пошел я поиски вести. Только вышел, смотрю, идет солдат в моих разрезанных сапогах. Ну что, сказал я, чтобы он мне их отдал. Ну он как-то даже и не сопротивлялся. Короче говоря, обменялись мы сапогами, а они мне еще пригодились. Я, когда домой приехал, еще за девчонками в них бегал.
Побыл я дома, а уже время моего отпуска заканчивалось, нужно было идти воевать. Как же мне не хотелось уходить! А куда денешься? Война. А потом я попал в выздоравливающий батальон в Борисоглебске под Воронежем, в запасной полк. Обидно, конечно, что у нас не было границ ранений. Ну раз ранило, два, три, и все — на фронт отправляют. Ну, в конце концов, когда-то не только в руку или в ногу пуля попадет, но и в голову тоже.
Хотя молодежь, которая на фронте была, особо не горевала, если кого-нибудь убьют. Ранило так ранило, убили так убили. Все были в боевой обстановке. Никто не плакал и никто не радовался.
С питанием всегда было все по-разному. Во время отступлений бывало такое, что все хорошо. Только периодически с подвозом было плохо. Тут не угадаешь, как подвезет.
А что такое война? Это ты идешь со своим хорошим другом, а его — раз — и немец убивает. Ну как же ты можешь простить кому-то смерть близкого тебе человека? Кем бы он ни был. И поэтому мы с немцами тоже жестоко разделывались.
Если по-честному сказать, наши тоже издевались над немцами. Помню все это. Война же. Помню, мы фашистам дорогу между Великими Луками и Ржевом перерезали. И там захватили эшелон награбленного барахла, а главное — эшелон с немецкими ранеными. Так вот представьте, они же наших боялись, побежали в лес. Тяжелораненые не могли никуда деться, а немцы с легкими ранениями стали «давать по тапкам». Мы их, конечно, тогда побили. Они же бегут, а люди злые, война… А мы в них стреляем. Кто убежал, все равно погибли, поскольку у них один путь был — в лес. А там далеко не убежишь, тем более что зима была. А так мы так, как немцы, не издевались. Газовых камер у нас никаких не было, ухищрений не делали, у нас этого не было. Все мы это видели. Весь этот ужас и кошмар не рассказать.
О конце войныКогда я узнал о победе, я очень обрадовался. Хотя сомнение в моей душе затаилось. Я первое время думал, что это некий трюк фашистов. Потом смотрю, а война-то действительно кончилась. Военнопленные стали оружие сбрасывать и уже идут под нашим конвоем. У кого убили родных — плачут, те, у кого родственники остались живы — радуются. А больше всего горя было у тех, кому похоронка после войны только пришла.
Я везде был. В пехоте начал, в авиации служил, в железнодорожных войсках — тоже. Закончил я в войсках НКВД, водил военнопленных. Героем я не был, но всю войну воевал. В 1946 году демобилизовался, а потом вновь был призван в 1951 году как офицер запаса. И в 1953 году я окончательно демобилизовался. А потом попал в Калининград, тут и остался жить.
Да, на нашу голову свалилось все это. И очень тяжело было. До самых недавних времен я воевал во сне. До того это в моей душе осталось.
Конечно, эта новость повергла меня в шок. Сестру мою, так как она была старшая, сразу же угнали в Германию. А нас, тех, кто был помладше, погрузили в теплушки и повезли. Мы ехали двое суток, прибыли в Дагестан, город Каспийск. Не успели мы приехать, как нас сразу заселили в общежитие. Выписали нам свидетельство об окончании ремесленного училища, выдали аттестат и отправили сразу на станки работать. А завод там был огромный. Мы же не знали, что на этом заводе производят. А потом через стенку подглядели, что там торпеды возят. Поняли мы, что это торпедный завод был.
Через время немцы очень сильно стали рваться к Кавказу. А там же Грозный, Майкоп, Баку. Ну а что делать? Было принято решение срочно эвакуировать завод. Первым делом увозили станки, потом документацию, а уж в последнюю очередь людей. Нас посадили на большой корабль, и вот мы до Красноводска плыли. А в этот день, как назло, такой шторм был. Как только он стих, мы услышали очень странный звук: «Уууууууууу». Поднимаем глаза, а в небе над нами самолеты парят. Думали, что все, конец настал. Все были уверены, что немцы нас бомбить начнут. Ну мы и попадали к палубе. Но ничего, обошлось. В самолете, вероятно, видели, что ни в чем не повинный народ плывет, и трогать нас не стали. Только смотрим, а самолеты полетели. Отлегло прям.
Приехали мы в Красноводск. Не успели мы прибыть, как нас опять погрузили в теплушки и отправили в Алма-Ату. Там мы стали отстраивать зоологический ветеринарный институт. И вот помню, как мы на третий этаж носили топленую смолу. Вне зависимости от погоды и времени года мы ее носили. Хоть осенью, хоть зимой. Носили и осенью, и зимой. Это же страшное дело. Работали на износ. А у нас в цеху… Ой, Господи, что мы только кушали! И требуху, и крапиву. А по талончику нам давали 40 граммов мяса.
По первому времени мы жили вместе с моей подружкой в 7-метровой комнате в деревянном домике, что-то вроде нынешних финских. Потом подругу забрала к себе сестра, и я осталась одна. Вшей там было тьма! Для того чтобы уснуть, я надевала масленый бушлат. Мне было 16,5 лет, и я спала на этом бушлате, с подушкой, укрываясь одеялом. По-собачьи так. А спать-то не могу, вся чешусь. Потом возьму бумажку, сниму с себя одежду и палочкой белых вшей со швов соскабливаю. И через окно все выкидываю. А утром встаю голодная. Есть нечего было. Это страшное дело.
 Ничего не боялись
Ничего не боялись
Я жила на Ташкентской аллее. Прохожу, а неподалеку от моего завода были табачная и трикотажная фабрики. Идешь, а по городу листки развешаны — казнь Зои Космодемьянской, капитан Гастелло, который направляет свой самолет на фашистов, знаменитый плакат «Родина-Мать зовет».
Пришла я к себе на завод. Захожу, а там на первом этаже висит боевой листок «Фронтовые подруги». Я посмотрела и думаю: а зачем я вообще здесь? Ведь уже Токмак, Запорожье — все было занято немцами. Насмотрелась я на эти боевые листки и под впечатлением решила пойти в военкомат. Приезжаю в Алма-Ату в Ленинский военкомат. А мне там и говорят: «Вы такая молоденькая, вы знаете, куда вы хотите пойти?». А я говорю: «Хочу пойти Родину защищать, родители мои там». Ну что мне, девчонке молодой? Такой патриотизм у нас тогда был, и тем более, родных я до жути хотела увидеть. Думала, что так мы быстрее встретимся.
Первый раз мне отказали, а на второй раз взяли. Ну и я добровольно ушла в рабоче-крестьянскую Красную армию. Патриотизм тогда мы очень сильный испытывали. Мы ничего не боялись, рвались помочь Родине.
В военкомате нас, пятьдесят человек девчонок, отправили в Ташкент. Приехали мы в полк связи, а нас там отказались брать. И снова посадили нас в теплушки, и поехали мы в Ашхабад. Там мы пробыли месяц. Представьте, жара 40-50 градусов, воды нету, а вокруг один песок да барханы. А мы, девчонки, в американских сапогах на толстенной подошве, а ножка-то тоненькая совсем была. Нас учили стрелять с разных позиций — стоя, лежа, с колена. Жара же была сумасшедшая, мы все и пообгорели. А ночью нас снова погрузили, только на этот раз в машину. А мы обгоревшие были от солнца, жара. Кузов машины был битком набит людьми. А около кабинки в кузове сидела я. С одной стороны у меня бочка, 300 литров бензина, а с другой — девушка сидит спинкой к борту. А я наклонилась к ней и сплю.
В 2 часа ночи наш шофер уснул и машина перевернулась. И я, когда летела, про себя думала: «Все! Либо жива буду, либо мертвая». Упала и слышу, крик раздался. Думаю: «Жива». Все кричат: «Лена, Лена!». Я подскочила, смотрю, а ей на грудь борт от машины упал, а изо рта у нее пошла пена. Я присела у кабинки, фары у машины горят, шофер убежал куда-то. Вижу, к нам два пограничника подбегают. Это мы подъехали к границе.Один из них подбежал ко мне и спрашивает: «Где болит?» Я говорю: «Руки». Показываю ему, а у меня кожа до мяса содрана. Мы же обгорели к тому же. Там мы просидели до вечера, а позже нас погрузили в машины и отправили через границу.
Когда мы приехали, пограничники у меня забрали все документы: аттестат об окончании ремесленного училища, свидетельство о рождении, трудовую книжку и 30 рублей. Забрали все, что можно было забрать. И так ничего не отдали. Порядок был такой. Уже после войны я восстанавливала все свои документы. Утром нас подвезли к штабу. Помню: вышел к нам генерал-лейтенант Трантин, командующий 58-м стрелковым корпусом, и при всех отругал нашего лейтенанта за то, что он теряет людей в тылу, когда на фронте людей не хватает. После этого всех раненых в госпиталь отправили. Ну и меня, ясное дело, забрали.
Я пришла, а они мне намазали мою руку облезлую зеленкой. Больно. Щипет. Оставили меня в госпитале на неделю. Я там побыла, а потом старшина пришел и забрал меня к себе в радиороту. Так что по военной специальности я — радистка. У нас фронта как такового не было. Мы защищали Кавказ. Боевых действий у нас никаких не было, часть эта считалась запасной. Там я и прослужила до конца войны.
Жизнь после войны
После войны решила вернуться к себе домой. Приехала, а там все разрушено, страшно, голодно. А за мной мальчик ухаживал, вот мы с ним и поехали жизнь искать. Было у нас два билета, булка хлеба и ничего больше. Решили мы поехать до Бреста. Думали, что город большой, там освоиться легче будет. А когда уже в поезде ехали, мы разговорились с нашими соседями по купе, и они сказали, что лучше нам будет устроиться в селе, там работа есть, а значит, с голоду не умрем.
Ну, мы решили последовать совету соседей. Вышли и 6 километров пешком шли. Переночевали на автобусной остановке, а утром пошли на рынок. Приходим, а там вербовщики зазывают в Калининградскую область на лесоразработку. Решили рискнуть. Приехали. Вышли, а там большими готическими буквами написано «Гумбиннен» — Гусев сейчас. Квартиру любую занимай. Все разбито, ободрано. Ну пошла я, работала на погрузку леса, а муж пошел сучки рубить. Так мы и остались жить с ним в области.
Мне так в жизни досталось. У меня такая судьба тяжелая была. Я из детского дома в Ленинграде. Вся блокада моя. Родилась я под Одессой, станция Слободка, в 1926 году.
У меня умерла мама, когда мне было всего 3 месяца. А отца — железнодорожника — неделю спустя расстреляли. Нас, детей, в семье было четверо — я, две сестры и брат. Ну а куда нас девать? Коллеги моего отца посадили нашу семью в вагон и привезли в Ленинград на вокзал. И вот с 3 месяцев я стала ленинградкой. Нас распределили по детским домам города, так как у нас был разный возраст — 3 месяца, 2 года, 6 и 12 лет. Мне было 9 лет, а я еще не знала, что у меня есть сестры и братья.
Когда объявили войну, мы еще пионерами были. Ну, мальчишки обрадовались: «Ура, нам дадут ружья, мы пойдем воевать». А девчонки сразу на санитарок пошли учиться, начались уроки по оказанию первой медицинской помощи. А потом нам сказали собраться. Мы собрали свои вещи и поехали на вокзал. Там мы жили около 20 дней. Одетые были, как есть, потому что уже закрыли выезд. Ну а что дальше? Вернули нас обратно и опять расселили в детский дом. Ленинград окружили, а мы голодные сидим. Хлебом для нас служила кора с дерева. Мы в прямом смысле слова деревья все съели. У нас во дворе росло три больших дерева. Так вот, насколько мы доставали, насколько поднималась рука, настолько ее сдирали. Кипятили, варили ее в печках и ели.
У нас в детдоме были разбиты все окна, стекол не было, а мороз был 40 градусов. Чтобы не замерзнуть и не умереть, мы сдвигали все койки и ложились кучей. Спали в шапках, в валенках и пальто, укрывшись сверху одеялом. Так вроде бы теплее нам было.
Мы очень часто собирали доски. Вот упадет снаряд в какой-нибудь деревянный дом, доски разлетятся, а мы собираем. Однажды мы пошли за этими досками. Нас было тогда человек восемь. Идем, чувствуем: какой-то съедобный запах. Точно! Запах еды какой-то! Ну мы идем, идем на него. Пришли, открываем дверь. И что мы видим? Сидит девочка лет 13-14, в руках у нее кочерга, а на кочерге кусок мяса. Рядом лежит умершая мама, вся обрезанная. Девочка поворачивается к нам и говорит: «Ой, а вы будете?!» Она нам рассказала, что ее мама научила, как нужно ткнуть ножом, чтобы ее можно было скушать. Потому что если бы ее мама умерла своей смертью, ее бы есть было нельзя, поскольку выделяется трупный яд и можно отравиться. После всего этого мы забрали ее с собой в детский дом. Но спустя два года она повесилась. Осознала, видимо, что съела собственную мать, и не выдержала.
 Как в тюрьме
Как в тюрьме
В детском доме мы были как в тюрьме. В тюрьме, наверное, даже лучше. У нас детский дом стоял на улице, по которой всегда проходила похоронная процессия, потому что церковь близко. Мы прыгали с первого этажа — а здание было петровских времен, и первый этаж был очень высокий — чтобы побыть среди людей. Мы ходили с людьми на кладбище, забегали в церковь. За то нас потом закрывали и три дня жрать не давали. Просто закрывали в комнате и не выпускали. Там мы писали, какали и спали на полу. Но как только в детский дом приходила комиссия, расстилались коврики и воспитатели обещали, что убьют, если мы что-нибудь расскажем.
В нашем детском доме была очень злая директорша. Она жила прямо в детдоме и занимала пол-этажа. А вместе с ней жили две ее дочери, одна из которых была замужем. Был такой порядок: пока ей кастрюли жратвы не принесут, мы стоим под дверью и ждем. А потом все строятся, и при входе тебе дают кусок хлеба. Сел — тебе дали тарелку. Хлеб мы сразу прятали за пазуху, чтобы потом можно было закинуть что-нибудь в рот.
А еще у нас была воспитательница — Анна Ивановна. Она считалась нашей первой мучительницей. Вот она придумала такой закон: кто получил двойку, тот должен сесть за «стол позора». И у меня была подруга Нина Мельникова, хорошая девочка. Так вот она как-то умудрилась получить двойку и отказалась садиться за этот стол. Помню, как наша мучительница схватила ее за шкирдон и стала бить ее головой об кафельный угол. Лбом, лбом, лбом так.
Моя самая старшая сестра во время войны вышла замуж в Пскове за еврея. Так вот он, абсолютно чужой человек, помог нашей семье воссоединиться. Разыскал всех и собрал в одну кучу.
Фиолетовые ногтиИ это еще не все ужасы, которые мы видели. Вот из моей сестры, которая была старше меня на два года, сварили холодец. Пошли мы с ней за водой на Неву. Ее нам было не достать, потому что в реке одни покойники плавали. И для того чтобы зачерпнуть немного воды, нужно было сначала палкой растолкать трупы.
К реке-то спуск был, а оттуда-то с нагрузкой очень тяжело было забираться наверх. Так вот, когда мы с ней наверх поднимались, она упала, потому что было скользко. Подняться она не смогла. Вдруг подходит к нам мужчина в форме железнодорожника с повязкой на руке. Как сейчас помню, взял ее на руки и говорит: «Ты иди, я ее донесу, я знаю, где детский дом». И я пошла. А у моей Тамары на тот момент были прищемлены пальцы, ногти были фиолетового цвета. Ну на следующий день мы с девочками в очередной раз пошли собирать доски и увидели, как стоит незнакомый мужчина с тазом и ест оттуда холодец. Он рукой его загребает, запихивает в рот, давится, но ест. Я подбежала ближе и увидела, что в тазу фиолетовые ногти моей сестры.
Человек просто становится зверем. Напротив нашего детского дома в Ленинграде стоял большой красивый дом. Туда каждый день подъезжала единственная легковая машина. Все знали, что в этом доме живет профессор. И вот мы идем с ребятами за досками, а рядом с нами идет женщина, которая несет банку, в которой налито чуть-чуть супа. В другой руке у нее был кусочек хлебушка. Видим, идет этот профессор нам навстречу. Как вдруг он на нее кидается, кидает деньги, они разлетаются во все стороны. Оба они падают. Он хватает этот хлеб, скорей его кладет в рот, давится и тут же умирает.
 Конец блокады
Конец блокадыПосле блокады, в феврале, нас, детдомовцев, в парусиновых туфельках и пионерской форме, вывезли за 32 километра от Ярославля и устроили там на ткацкую фабрику. Дорогой в нашем вагоне умерли 52 человека. А знаете почему? Население-то знало, что идет первый поезд с Ленинграда. Все бегут. А что дать голодным? У кого морковка была, у кого что. Ну мы и хватали. А нам никак нельзя было есть ничего. Дали тебе морковку, она в горле у тебя и застряла. Непроходимость.
Когда уже работали на фабрике, нам всем убавили по году — для того чтобы мы могли получать бесплатную тарелку супа. А так-то у нас были талоны на питание. Ну а что с них толку? Мы придем, подадим карточку, на дворе 15-е число, а уже все талоны съедены. А жить-то надо было еще как-то полмесяца.
Потом моя сестра забрала меня к себе, на тот момент у нее уже было трое сыновей. Когда освободили Киев, она мне и говорит: «Знаешь, Маша, в няньках жить — ума не надо. Поезжай-ка ты в Киев и устраивайся». Ну я недолго думая приехала и поступила там в художественно-промышленный техникум. Это весной было.
Чтобы хоть как-то крутиться, я начала сдавать кровь. У меня в техникуме была подруга Соня Островская. Так вот ей мама запретила быть донором. А у меня кровь уже не хотели брать, потому что я была голодная и гемоглобин у меня был очень низкий. Ну, ничего не оставалось делать, как идти на преступление. Соня шла со мной в институт переливания крови, сдавала за меня анализы, а я уже шла сдавать кровь. А потом нас кормили обедом, а мы его на двоих делили. Идем мы радостные. А на улице стоит женщина и продает первую черешню. Мне так захотелось, так захотелось! Слюни идут. Подошла, успела спросить только, сколько стоит. Потом бац, и я чувствую, как поплыла. В итоге упала в обморок. Когда я очухалась, приехала скорая и забрала меня в больницу. Тут же мне влили крови. Да, хохма была.
День Победы помню так же отчетливо, как и начало войны. В этот день мы с ребятами из техникума, в котором я училась, копали в колхозе под лопату землю. Работали по полной программе. Вдруг нам объявляют о Победе. Ну, мы сразу все лопаты побросали. Пригнали машины, и нас отвезли в Киев. Идем мы пешком по городу, а все люди идут и в объятья друг другу кидаются. Знакомые, незнакомые — тогда разницы не было. Все плакали, абсолютно все. Никто не плясал и не радовался. Только на следующий день гулянья начались.
Время шло, я росла. Закончила я 7 классов. Так вот, после окончания школы мы решили всем классом пойти в сельскохозяйственный техникум. Половина из наших пошли на агрономический, а часть — на зоотехнический. Я пошла на зоотехнический, потому что очень сильно любила животных. Училась. А потом как гром среди ясного неба прозвучало известие о войне.
 Тот день, когда я узнала эту страшную новость, не забуду никогда. Денек тогда выдался ярким и жарким. Хорошо помню, что в этот день мои родители ушли гулять в парк, а я вместе с девчонками осталась дома. Думаем: «Ох, родители ушли, ура». Пошли, значит, мороженое купили. И вдруг в 11 часов вечера мои родители возвращаются и кричат: «Ой, война началась! Война!». Я услышала это, выбежала на улицу к маме. Она меня обняла и говорит: «Ой, доченька, война!». Только она это произнесла, как меня вдруг что-то в ногу, как пулей, ударило. Я думаю про себя: «Боже, как больно! Что же это такое?» Села, плачу. Ко мне бабушка моя подбежала и говорит: «Не двигайся, там, наверное, стекло кто-то оставил». Принесла фонарь, зажгла его, а рядом с моей ногой большущий скорпион сидит. Повезло, что мы жили в центре города и этот скорпион был городской, следовательно, не такой опасный для человека. Если бы мы жили рядом с кладбищем, то мне было бы плохо, потому что они питаются трупным ядом. Лекарств у нас никаких не было. Бабушка отрезала лук, выжала сок и прижала к ране. Вот и все лечение (смеется). Испугались, конечно, все. Война же — это всегда страшно.
Тот день, когда я узнала эту страшную новость, не забуду никогда. Денек тогда выдался ярким и жарким. Хорошо помню, что в этот день мои родители ушли гулять в парк, а я вместе с девчонками осталась дома. Думаем: «Ох, родители ушли, ура». Пошли, значит, мороженое купили. И вдруг в 11 часов вечера мои родители возвращаются и кричат: «Ой, война началась! Война!». Я услышала это, выбежала на улицу к маме. Она меня обняла и говорит: «Ой, доченька, война!». Только она это произнесла, как меня вдруг что-то в ногу, как пулей, ударило. Я думаю про себя: «Боже, как больно! Что же это такое?» Села, плачу. Ко мне бабушка моя подбежала и говорит: «Не двигайся, там, наверное, стекло кто-то оставил». Принесла фонарь, зажгла его, а рядом с моей ногой большущий скорпион сидит. Повезло, что мы жили в центре города и этот скорпион был городской, следовательно, не такой опасный для человека. Если бы мы жили рядом с кладбищем, то мне было бы плохо, потому что они питаются трупным ядом. Лекарств у нас никаких не было. Бабушка отрезала лук, выжала сок и прижала к ране. Вот и все лечение (смеется). Испугались, конечно, все. Война же — это всегда страшно.
Когда началась война, всех наших мальчишек забрали в армию. Мало кто вернулся, кстати. А нас, первый курс техникума, разогнали по районам. Я никогда не боялась ни лошадей, ни коров, животных обожала. И к тому же была очень шустрая. Короче говоря, меня отправили работать в Касансайский район, который граничит с Киргизией.
Узбекистан нам все время давал чистейший хлопок, и у нас получался отличный ситец. Его мы продавали в разные места и даже в Америку. Город Иваново образовался именно из-за Узбекистана, потому что мы его снабжали хлопком. Англия списала нам свои станки, чтобы мы подкинули им хлопка. Ну мы так и сделали. У нас образовался большой ткацкий комбинат, который работал в три смены.
 Создание конной дивизии
Создание конной дивизии
Война шла, а я уже была зоотехником на втором курсе. Вдруг пришел к нам товарищ с военкомата и говорит: «Вот давайте, товарищ зоотехник, создайте конную дивизию имени Фрунзе и отправляйте ее на фронт». А помимо этого нужно было еще дополнительно отправить на фронт лошадей, да побольше. Для того, чтобы кормить народ и солдат. Ну а где лошадей брать? Было принято решение ехать в горы к кочевникам. А у нас, кроме баранов и хлопка, ничего не было-то. Выхода не было, поехали — я, ветеринарный врач и проводник. Приезжаем мы к киргизам. А пока ехали, смотрели, сколько у каждого из них юрт. Сколько было юрт, столько было жен. Одна обед готовит, другая шьет, третья за мужем ухаживает, например. Так вот: если юрт много, значит у него много жен, раз много жен, значит не бедняк, а это значит, что у него есть лошади. Порядок был такой: мы приходим, садимся на пол и начинаем пить чай. Только после этой процедуры я могла начать объяснять: «Вы знаете, у нас началась война, на нас напала Германия, и нам нужны лошади, для того чтобы пушки возить». А я-то не знала, что толком говорить, никто же мне не объяснил. Ну, сказать о том, что лошади нужны для того, чтобы их резать и кормить людей, я побоялась. А он мне: «А сколько вам нужно лошадей? Одну-две?».
Я ему: «Нет, что вы?! Больше. Выберем у вас, сколько не жалко. Побольше надо, потому что это на войну. А если вы лошадь не дадите, то потом к вам придут и заберут какого-нибудь сына в армию». Так что ты! Только ты это скажешь, как сразу он лошадей пригонит. А у них были стада, одна отара — сто кобыл и несколько жеребцов.
Мне помогало то, что я очень любила лошадей. Пригоняют они стадо, а я начинаю всех проверять. По зубам, например, я могла сказать, сколько лошади примерно лет. Холку смотрела, чтобы спина не провисла, чтобы копыта были не разросшиеся. Отбирала я лошадей и делала это по совести. У меня была обыкновенная тетрадь в клеточку. И туда я карандашом писала расписку следующего содержания: «Я, зоотехник Касансайского района Узбекской ССР, у Ислама Аке забрала 20 кобыл и 5 жеребцов. После окончания войны наше государство заплатит вам за стоимость всех этих лошадей». И я расписывалась везде. Наш ветврач, который был намного старше меня, понимал, что давать расписки нельзя и что на это мне никто не давал права. Поэтому он отказался этим заниматься, и вся ответственность упала на меня. Уже спустя неделю после того, как мы первый раз приехали за лошадьми, все горы знали, что едет комиссия собирать лошадей.
 Свое обязательство мы выполнили, согнали лошадей и отправили для армии. А нам-то надо было как-то жить. Поэтому на следующий год я брала лошадей по-другому. Наш ветврач говорил киргизам: «Давай табун лошадей пригони, мы посмотрим. Может, больные есть». А я как зоотехник ходила, смотрела их и говорила: «Ну, смотри, Киримака, кобыла твоя уже старая. Раз старая, то жеребенка уже не родит, молока не даст. Зачем она тебе? Отдай». И вот таким образом я собирала старых лошадей и забирала с собой вниз, в город, потому что есть было нечего, нам даже хлеб не давали. За всю войну я ни разу не скушала ни одного кусочка хлеба. Так мы выжили.
Свое обязательство мы выполнили, согнали лошадей и отправили для армии. А нам-то надо было как-то жить. Поэтому на следующий год я брала лошадей по-другому. Наш ветврач говорил киргизам: «Давай табун лошадей пригони, мы посмотрим. Может, больные есть». А я как зоотехник ходила, смотрела их и говорила: «Ну, смотри, Киримака, кобыла твоя уже старая. Раз старая, то жеребенка уже не родит, молока не даст. Зачем она тебе? Отдай». И вот таким образом я собирала старых лошадей и забирала с собой вниз, в город, потому что есть было нечего, нам даже хлеб не давали. За всю войну я ни разу не скушала ни одного кусочка хлеба. Так мы выжили.
А спустя некоторое время меня пригласили работать в областной Совет начальником. Так вот, я, когда работала, даже не думала о том, что кто-нибудь придет с распиской за возмещением денег за лошадей. Все уже позабыли про это сто раз. Да и тем более радовались все так! А если бы пришли, я не знаю, что бы я и делала (смеется).
Первые немцы вели себя очень жестоко к мирному населению. Надменно так, обижали иногда. Поймает куру во дворе, каской по ней как даст, голову хрясь — и пошел готовить. Мы-то пацаны еще были, интересно было наблюдать. Позднее, за первым фронтом, пришли административные немцы, которые стали из нашей местности выбирать старосту и организовывать управление. Старосте были даны указания, как и когда он должен поступать. Особенно строго спрашивали у него за партизан. Если кто-то что-то знал, он был обязан рассказать про это немцам. Каждый день мы работали. Утром приезжают фашисты и тебя забирают. Девчонки картошку чистили зачастую, а мы распиливали дрова. А вечером на своих же лошадках мы ехали домой.
 Партизаны
Партизаны
В нашем селе Лехово очень много народу жило. В 1942 году в январе это был немецкий опорный пункт — около 67 немцев там было. Ну, в общем, ворвались партизаны к нам в село и перебили всех до одного немца. Мать говорит командиру: «Отпусти семью в лес, в деревню Голодница. Нам пройти только три километра. Немцы же вернутся». А он ей сказал, чтоб она не волновалась, отправлялась домой, поскольку на следующий день должны были прибыть наши танки. Но это было все вранье.
Мать он все же отпустил, я остался в хате как сторож. Поскольку наш домик стоял крайний от села, солдаты именно к нам приходили с дозора, сушили портянки и грелись. Вот как-то ночью я просыпаюсь и не могу понять, что произошло. Ни одного солдата вокруг нет. Оказалось, что немцы взяли в кольцо наше село. Результат тогда, конечно, был плачевный. Партизан много очень перебили, некоторые по направлению к шоссе ушли. А я сперва залез под пол, а снаряды ведь рвутся. Решил я все-таки выползти. Вижу, солдатики стоят, я дернул одного за полушубок и говорю: «Куда мне? Мне надо в деревню Голодницу». А он говорит: «Нельзя выходить, немцы там бегают».
Я, значит, все-таки выбегаю, глянул, а около нашего дома миномет стоит, и наши два партизана стреляют в сторону немцев. Сказали они мне, куда бежать можно. Ну а что делать, рванул я. Метров 150 отполз, потому что пули над головой свистели. Слышу: «Бааааааах!» Сильнейший взрыв был. Я только глянул, а от моего дома остались бревна и черный дым. Немцы ведь тоже не дураки были. Наши из-за угла стреляли, а те засекли, конечно, и дали сюда несколько снарядов. Я только глянул и пошел.
Переезды
Ну, встретился я с семьей. Через два дня мы вернулись в Лехово, там уже тихо все было и ни одного домика нет. Ни одного из ста тридцати домов. Снег идет, февраль, и дымятся головешки. Немцы дома, которые не были взорваны, подожгли. У них была такая политика: там, где партизаны побывали, никому не жить. Чтобы больше не приходили.
Спустя неделю решили мы поехать к моему деду за 12 километров, ближе к Великим Лукам. Переехали. Лето мы все там и пробыли, работали, сеяли что-то, пахали. А осенью партизаны снова дали бой. Ну немцы, конечно, ворвались и сожгли эту деревню полностью.
Переехали мы к бабушке в деревню Луговое в Псковскую область. Немцы свирепствовали, что там говорить. Летом мы картошку запахали, зерновые тоже. Только с огорода жили. Курицу завести было практически невозможно, потому что, как только у тебя появляется кура, немцы сразу отбирают. Яички им подавай, курицу подавай, да и молоко тоже.
Живем мы в бабушкиной хате, я смотрю: за километр от леса немцы едут и лодку везут метра три длиной. Ну вот они волокут ее, зима — она легко идет. Ну вот они по деревням шастают и кур отбирают. Я как увидел, забежал в хату и говорю: «Мама, немцы едут с лодкой». А у нас же куры. Мы этих кур под печку запихнули, закрыли заслонкой и кровать придвинули, а бабушку сверху посадили.
Заходят к нам два немца и говорят: «Матка, кура, яйка, шпик». Какой у нас шпик? Они ведь уже на тот момент всех свиней поели. Сказал я немцу, что у нас нет ничего. И вдруг курица под печкой: «ко-ко-ко». Ужас. Все в душе оборвалось в тот момент. Он к кровати подходит, а там бабушка моя. Он ее рукой оттолкнул, ну она и полетела. Нашел он наших кур и всех до последней выгреб. Мы уже привыкшие были. Будешь меньше вякать — останешься живой, будешь возникать — тебя убьют.
Помню, как немцы Рождество праздновали. Сидели они у нас в хате, у них был накрытый стол, ой как они этот праздник любили. Посылки получили, сидят, пьют, отдыхают. А я на печке сидел. Меня немец один к себе подзывает, выводит в сени и говорит: «Скоро сюда придут ваши. Вас будут эвакуировать в Германию. Скажи матери, что на это время нужно уйти в лес». Я все это уловил. Рассказал он мне, что немцы в Сталинграде потерпели крах, и это аукнулось по всем фронтам. А по нашей местности проходил так называемый фронт «Центр».
 Не получилось нам уйти, как он сказал. Налетели немцы на вторые сутки. Ясно было, что нам не уйти. Но нужно было бабушку вывести в лес, в сторону, где наши партизаны. У нее там дочка километров за двадцать жила. Ну, пошел я ее провожать. Выходим мы, а там немец стоит. Ее надоумили идти и ни в коем случае не оборачиваться. А я должен был его, если что, заговорить. Ну немец увидел, что бабушка уходит, кричит ей и затвором уже начал щелкать. Я ему соврал, что она больная на уши. Пощелкал он, пощелкал, и бабка как ни в чем не бывало ушла.
Не получилось нам уйти, как он сказал. Налетели немцы на вторые сутки. Ясно было, что нам не уйти. Но нужно было бабушку вывести в лес, в сторону, где наши партизаны. У нее там дочка километров за двадцать жила. Ну, пошел я ее провожать. Выходим мы, а там немец стоит. Ее надоумили идти и ни в коем случае не оборачиваться. А я должен был его, если что, заговорить. Ну немец увидел, что бабушка уходит, кричит ей и затвором уже начал щелкать. Я ему соврал, что она больная на уши. Пощелкал он, пощелкал, и бабка как ни в чем не бывало ушла.
В общем, все-таки приняли немцы решение с прифронтовой полосы нас убрать. Согнали все деревни в один поселок и там сортировку уже вели. Старые и маленькие — в одну сторону, кто может работать — в другую. Детей и стариков сразу сажали в машины, везли до станции, на поезд и в Германию. Помню мужика одного с соседнего села. У него была дочь лет пятнадцати. Так когда стали сажать в машину, он упал на землю и стал ноги немцу целовать, лишь бы дочь не увезли. А фашист этот недолго думая как зарядил ему с ноги по челюсти. Тогда мы поняли, что разговор с ними короткий.
Как-то утром в январе 1943-го, только мы из деревни Сетки выехали, в которой находился опорный пункт у немцев, смотрим — летит самолет. Это был наш бомбардировщик, который летал, отбомбился и запоздал с возвращением. По нему Мессершмитт стреляет. Смотрим в небо, а там парашютист выбросился. А самолет полетел дальше в лес, в сторону нашей деревни. И вот, значит, парашют раскрылся прям у самой земли. Немец выхватил у парнишки лошадь и поскакал летчика догонять. Поймал его немец все-таки. Про самолет мы забыли, как слышим — грохануло.
Кто-то крикнул, что в нашу деревню самолетик-то приземлился. Только с лесу выбегаем — и точно. Пилоты, будучи ранеными, направили самолет на деревню. Рассчитывали фашистов погубить, а погубили наших. Он упал прямо на одну из хат, но от удара разломился и перевалился на ту сторону деревни, и загорелось четыре дома сразу. Я смотрю — а в самолете куски от человека. Стал я потихоньку за гимнастерку тащить. Вытащил, а в кармашке у него обгоревший документ. С Красноярского края парень был, 1914 года рождения. Только мы стали рассматривать его, как немцы уже тут как тут. Отогнали нас, думали, что кто живой остался. Километров восемь до фронта не дотянули.
Конец оккупации
6 октября 1943 года. Никогда не забуду. Гнали нас на станцию. Как сейчас помню: проснулись мы, смотрим — а в небе летят штук 350 наших самолетов. Наши налетели, стали бомбить, а немцы, вместо того чтобы обороняться — по кустам, как крысы. Да, как самые настоящие крысы: повскакивали и по кустам ноги уносили. Многие из охраны сразу к нам в кучу прыгнули. Как только самолет пролетел, охранники кричат: «Подъем!». Самолеты знали, в кого метить надо, и специально пролетали, не давали угонять нас. У меня друг был, Володей звали. Я ему предложил, когда наши полетят опять, сбежать. Ну что? При первом удобном случае мы и побежали, да так побежали, что и не знали, куда прибежали. Еще бы, ведь мы, пока неслись от немцев по лесу, думали, что за нами погоню организовали. А утром вышли на наших уже. Объяснили все, и нам сказали, чтобы мы в тыл пошли к деревне, где родились. Там мы с мамой и встретились.
 Сразу же после освобождения мы стали восстанавливать колхоз. Хотя никого не было, ни буренки, ни хатки не было. Жили в землянках. Ужасные трудности. Год работали. В 1944 году в октябре меня призвали в армию, тогда мне только 17 исполнилось. Но учитывая, что война катилась уже к западу, нас на фронт не послали, а распределили по учебным лагерям. Таким образом, мы попали в учебный курсовой полк 30-й Ивановской дивизии, где нам потом, к концу войны, присвоили звание — кому «сержант», кому — «ефрейтор». Я ефрейтором был — самое высокое звание в армии, за адмиралом идет (смеется).
Сразу же после освобождения мы стали восстанавливать колхоз. Хотя никого не было, ни буренки, ни хатки не было. Жили в землянках. Ужасные трудности. Год работали. В 1944 году в октябре меня призвали в армию, тогда мне только 17 исполнилось. Но учитывая, что война катилась уже к западу, нас на фронт не послали, а распределили по учебным лагерям. Таким образом, мы попали в учебный курсовой полк 30-й Ивановской дивизии, где нам потом, к концу войны, присвоили звание — кому «сержант», кому — «ефрейтор». Я ефрейтором был — самое высокое звание в армии, за адмиралом идет (смеется).
Тут же нас призвали в конвойные войска НКВД. Это было на май месяц 1945-го для охраны военнопленных. Военнопленных немцев было очень много, и вот, значит, создали из нас конвойные войска, полк такой — 399. Был май. Нам надо было еще месяц учиться, чтобы полностью закончить курсы. А тут в мае заходит к нам старшина и говорит: «Дневальный, как только будет подъем, скажешь, что война закончилась».
Только он вышел, как полетели одеяла. Все услышали, конечно, новость. С одной стороны, весело, радостно тогда на душе было, война ведь закончилась. А с другой, нас же только вот-вот готовили на фронт. Там бы хоть хлеба вдоволь наесться, 100 грамм фронтовых выпить. Не получилось (смеется).
После войны
После войны я служил в конвойном полку. Первых 460 военнопленных мы приняли в Литве и погнали в Тулу. Мы должны были отводить немцев на работу на угольную шахту, а вечером проверить, все ли на месте, и отвезти их обратно в лагерь. С немцами вообще-то легко было, потому что там офицеры же были. Погоны, кстати, они не снимали и зачастую не работали, но дисциплину держали такую, как во времена Гитлера. Я начальником конвоя ходил, и, если мне надо было кого-то приструнить, я делал это через офицера. Мне так было легче.
Когда войну объявили, мне было всего пятнадцать лет. Пятнадцать! Мальчишка, одним словом. 8 класс это был, как сейчас помню. Отец мой работал на электростанции, ТЭЦ, в котельном цехе машинистом. Ну, а что? Конечно, согнали всех мужиков и отправили защищать Родину. Помню, какой был патриотизм! Да, сейчас такого нет. Осталась в городе одна молодежь и женщины.
Через год после начала войны, в 1942 году, я уже учился в 9 классе. Помнится мне, как к нам эвакуировался машиностроительный завод из Баку, который стал выпускать военную продукцию.
С апреля 1942 года началась моя трудовая деятельность. Вы только представьте, мы учились, заканчивали учебу и шли на завод, где работали по 8 часов у станка. Тяжело было, чего и
 Фронт
Фронт
А в 1943 году мне стукнуло 17 лет. Молодой озорной парнишка был. Уходишь на фронт — герой, ведь страну защитить честью было. И погибнуть за нее не страшно было. Все уходят на фронт, ну и мне захотелось. У пацана же это в крови — пострелять, в боевых действиях поучаствовать. Ну и вот в 1943 году мы с моим другом решили добровольно уйти в армию. Чуть ли не сбежать решили. На фронт все тогда рвались. Мы не задумывались абсолютно о последствиях, хотелось показать себя.
Отправили нас в Уфу, на пересыльный пункт. Там как раз распределение шло, кого куда направляли. Прошел я летную комиссию, а друг мой — нет. Он в одну часть попал, в пехоту, а я в училище в Уральск. Программу обучения сократили
Первое время мы стояли в Шауляе, откуда мы летали в основном по Прибалтике. А первый вылет на Кёнигсберг мы совершили 6 апреля 1945 года. Маршрут наш был проложен уже заранее, да и задание было дано заблаговременно. Погоды тогда в Кёнигсберге не было, для полетов он был закрыт. И вот, когда он
Помню, что мы заходили со стороны моря на Пиллау и бомбили. Уходили на свой аэродром, возвращались и опять бомбили. Что примечательно, нас иногда, если повезет, сопровождал истребительный французский полк «Нормандия — Неман».
Не всегда, конечно, получалось так, что они сопровождали нас на цель. Представь, мы приходим на цель. Когда на боевой курс ложимся, истребители должны были отойти в сторону. Потому что начинают очень сильно зенитки бить. А зачем нам лишние потери? Все это делалось для защиты бомбардировщиков от вражеских истребителей.
Мы отбомбимся и уходим со снижением, они опять к нам прилетают и сопровождают. Мы их до аэродрома доводим, они садятся, а дальше мы уже к себе на аэродром идем.
Самый страшный бой был в Пиллау, тогда мы сделали 11 вылетов. Да! Пиллау был страшен,
Подобрали нас солдаты. А я у них и спрашиваю: «Сколько
Позже, когда разбираться стали, поняли, что погиб он, потому что лежал лицом в хвост, там,
Мы в Бога все очень верили. А Жора Мантуров перед каждым вылетом прожигал церковную свечу — сначала одному двигателю, потом другому. И перед каждым взлетом он говорил: «Ну, с Богом». И после того, как нас сбили и мы остались живы, он вспомнил о том, что когда взлетал, не сказал «с Богом!».
После этого кошмара нас отправили в штаб армии, которой командовал генерал Хрюкин.
На транспортном самолете были мы отправлены в часть в Шауляй. Ну, а оттуда нас перебросили в
 День Победы
День Победы
День, когда мы узнали о Великой Победе, никогда не забыть. Забавная ситуация в тот день произошла. Мы стояли в Польше, жили в помещении,
Полк «Нормандия — Неман» летел во Францию уже, домой. Мы проводили их. Помню, как сказали: «Только домой, только в Париж», заправились и улетели. А через некоторое время нам пришел приказ под Москву прилететь, в Раменское. Ну, прибыли. Построил нас командующий Новиков и сказал, что нам предстоит еще одна миссия на Востоке. Ну, Восток — значит, Восток. И вот мы через Казань — Свердловск — Омск — Новосибирск, Красноярск — Иркутск — в Читу.
Направили нас оттуда в Монголию. Там приготовили такой полевой аэродром, где мы сидели недели две. Ну, а потом Молотов объявил Японии войну и дал нам приказ. Первый вылет мы сделали на железнодорожный узел японцев в Маньчжурии. Мы должны были еще на японский остров Хоккайдо сесть. Так и не получилось: японцы подписали капитуляцию американцам. Война закончилась, значит, можно было возвращаться домой. Из Харбина мы перелетели в Сысоевку на Дальний Восток, после этого в Зональное, которое на Сахалине находится. Наградили меня, дали медаль «За победу над Японией».
Поскольку Сталин хотел, чтобы японцы подписали капитуляцию Советскому Союзу, а не американцам, он очень многих снял с должности, в том числе и маршала Новикова, за невыполнение задания. А потом мы узнали, что перед нами должны были бросить десант, должны были подойти корабли, затем воздушный десант, и потом уже мы должны были сесть. Не вышло . Служил я пять с половиной лет на Сахалине, а потом переучился на тяжелый бомбардировщик
Кстати говоря, друга, с которым мы добровольцами на фронт ушли, убили через три месяца после того, как призвали. Странное дело:
Это был наш второй фронт. Конечно, вся эта нагрузка для нас была очень тяжела. Что у нас было? Да ничего — ни хлеба, ни одежды, ни даже обуви. А ведь надо было все делать. Ну, вот мы и работали полураздетые и зимой, и летом.
Запомнился мне случай один. В 1942 году к нам пригнали поволжских немцев. У нас там была одна немка, которая мне очень запомнилась. Ну вот представьте, животные вместе с людьми работали от зари до зари. Отдыха не было. Животные, конечно, такой нагрузки не выдерживали, люди — тоже. И вот как-то раз вся тварь устала настолько сильно, что попусту валилась с ног. Эта немка как-то неудачно ногу поставила, а конь как упадет ей на ногу. Она от боли как давай по-русски материться. Материлась, материлась, а потом по-немецки стала. А я подхожу к ней и говорю: «Что, по-немецки лучше? Легче стало?» (смеется). Все тогда долго хохотали.
На посевной был самый большой и непосильный труд. Работали мы там без передышек, никаких выходных и бань не было. Насекомые на тебя садятся, кусают. Мы носили мешки с зерном по 50-60 килограммов на элеватор, который находился на втором этаже, на собственном горбу. Хлеб мы должны были убрать и сложить. А потом, зимой, его надо было увезти за 30 километров в 40-градусный мороз. Все это пережито.
 Е.В.: Работали мы в колхозах, в тылу. Тяжело нам было там. Немало нам досталось. Мне было 14 лет, а нас уже заставили работать. Работа в колхозах была нелегкая, что и говорить. Все мы для войны делали. В школу когда пошли, началась хлебоуборка. И приказ пришел такой: «Пока не закончится хлебоуборка, никакой школы для старшеклассников».
Е.В.: Работали мы в колхозах, в тылу. Тяжело нам было там. Немало нам досталось. Мне было 14 лет, а нас уже заставили работать. Работа в колхозах была нелегкая, что и говорить. Все мы для войны делали. В школу когда пошли, началась хлебоуборка. И приказ пришел такой: «Пока не закончится хлебоуборка, никакой школы для старшеклассников».
А мы учились как? У нас в селе не было же школы, только 4 класса мы могли отучиться. Так вот, каждый день нам нужно было пройти 6 километров в одну сторону, чтобы прийти в школу, которая находилась в другом селе. Да еще по поселку до школы нужно было больше километра пройти. В будние дни мы так в школу ходили, а в воскресенье — за сеном да за соломой ездили.
Несмотря на то, что война была, мы все равно были веселее, чем молодежь сейчас. У нас хутор был небольшой, но очень сплоченный. Помню, что у нас один мальчишка забавный был. У него тулуп был. Он в него завернется и едет на санях зимой, как неваляшка. Я возьму добегу, столкну его осторожненько, а лошади дальше едут. Он упал, начинает пытаться встать, копается, а ничего не выходит. Этот тулуп раза в два больше его был. А мы все смеемся.
Запомнилось мне, как после хлебоуборки в ноябре мы пошли в школу, в пятый класс. Нам растопили баню, мы накупались. А потом нас пригласили в школу, где уже были накрыты столы. Так вот, там нас премировали. Мальчикам на рубашки давали денежку, а девочкам — на платья. Это было такое достижение для нас. Потом нашим родителям налили по 100 граммов, а нам, детям, — по стакану компота.
Мы вот не за 30 километров, а за 200 хлеб увозили. Ведь это просто жутко. Какие юные мы были — и все на себе таскали. В первый год войны я работала на сенокосе на граблях. Грабли были эти огромные, с комнату, наверное. И вот ты сидишь и гонишь лошадь, а она идет и граблями сено сгребает. Вот тогда я первый раз в своей жизни увидела летучего муравья. Они стаей налетели на лошадей, стали кусать их. Лошади как рванули! А у нас там озеро было. Я смотрю, они прямо туда и несутся. А там же обрыв был, метров пять, а то и больше. Не знаю как, но, видимо, у меня сработал инстинкт самосохранения. Я вожжи с правой стороны намотала и грабли резко в землю воткнула. И тогда лошади не смогли с места тронуться, и муравейник этот улетел. Еще бы чуть-чуть и я бы вместе с лошадьми и граблями в озеро бы полетела. Да, всякого страху было.
Шахты
А.И.: Война шла. А стране был необходим уголь. А кому работать, если все мужчины на фронте? Конечно, нам, подросткам. Так вот, в шахты по повесткам военкомата стали набирать молодых ребят. Наш год взяли. Наш эшелон привезли в Караганду на пересылочный пункт. Утром нас подняли и сказали, что перед нами выступит полковник. Так этот полковник вышел и сказал, что на нас наложена бронь и мы будем работать в шахте. Сразу он предупредил о побегах. «Если будут какие-то инциденты, то вас будет судить военный трибунал», — сказал он нам. А военный трибунал — это страшно.
Ну вот таким образом я оказался в Караганде и стал шахтером. Работали мы по 17-18 часов в сутки. Пока ты не выполнишь план, не имеешь никакого права уйти. А мне еще попался самый тяжелый участок — я работал горнопроходчиком в забое. Очень часто происходили разные аварии, приходилось откапывать шахтеров из-под завалов. Сколько за мой период работы в шахте я захоронил своих ребят! Не сосчитать. А сколько калеками осталось! Тот самый фронт.
 «Ой как радовались!»
«Ой как радовались!»
Е.В.: В день окончания войны мы в лесу работали, там была наша посевная. Леса кругом, красота. Мы только закончили сеять, сидим, отдыхаем. Вдруг из лесу вылетает верхом на лошади командир с красным флагом и кричит: «Дети, женщины, война кончилась!».
Радовались мы, ой как радовались. А у одной женщины на фронте сын погиб, а чуть позже и муж в Караганде. И она осталась одна с шестилетним сыном. Ох, как она плакала. Это ужас. Мы-то, подростки, радовались только, а родители со слезами стояли.
А.И.: Что до сих пор у меня в глазах стоит, так это начало войны и ее конец. В этот чудесный день мы были с председателем в районе. Там было радио. Так вот, сидим мы, как по радио объявляют, что война закончилась. Председатель мне и говорит: «Саш, давай запрягай лошадей, я захвачу нашего уполномоченного с района и поедем в село». Ну, и что вы думаете? 30 километров я проехал за полчаса. Сейчас вспоминаю это, и мне становится жалко этих лошадок, так быстро скакали. Приехали мы, все лошади в мыле, потные до ужаса. Приезжаем в бригаду и говорим: «Девочки, мальчики, война кончилась!» Все побросали все, кто кричит, кто плачет. У кого погибли родные, так вообще навзрыд плачут. Такой был ужас.
«Прыгай, прыгай»
Е.В.: После войны я сбежала с колхоза работать в шахту. О страхе даже не задумывалась, если быть честной. Работала я там пробораздельщицей. Я однажды тоже чуть не измолотилась в шахте. Страшная у меня тогда смерть была бы. Пошли мы в шахту брать пробу. Мы набирали уголь в ящички, затем в мешки, а потом мы выносили их туда, где ходил электровоз. Там выемка была в стенке, и туда мы мешки ставили. И тут я слышу, говорят, чтобы мы быстрее шли, потому что комбайн должны включить. Я схватила этот мешок и помчалась вниз, чтобы мне успеть посмотреть, что это такое — комбайн. Я только сбежала, мешок с углем бросила, поднялась и только собиралась правой ногой на железку наступить, как в этот миг меня сзади схватил человек и потащил вниз. Слышу только, что он мне говорит: «Прыгай, прыгай». Я и прыгнула. А он опять схватил меня и уволок за угол. И в это момент стенка рушится. Этот товарищ держал меня, пока вся пыль не сошла.
А.И.: С шахтерской профессией у меня были связаны 40 лет моей жизни. В Караганде же я тогда нашел свою любовь.
Е.В.: Познакомились мы с Сашей на шахте в 1949 году. Вскоре решили пожениться. Так и до сих пор с ним и живем, уже 65 лет вместе.
А.И.: Вот такие мы, тыловики!
Первые рейсы у нас были — Иркутск, Новосибирск. Мы возили тяжелейших раненых в этом поезде, и там, по следованию из города в город, мы сдавали их в госпитали. А в 1942 году в июле нас послали на Воронеж.
 Воронеж
Воронеж
Город тогда был наполовину занят фашистами, и надо было оттуда срочно эвакуировать раненых с госпиталей. И вот на пяти санитарных эшелонах нас послали туда. Наш эшелон брал примерно 600 человек, а нагрузили мы туда 1500 человек. Битком, просто битком набитые вагоны. Для тяжелораненых были специально оборудованные вагоны — 15 носилок с одной стороны и столько же с другой. Солдаты с более легкими ранениями ехали в обыкновенных вагонах. И вот представьте себе, что в ночь с 5 на 6 июля, несмотря на то, что на наших вагонах были огромные красные кресты, на нас налетели фашистские самолеты. Мы только с Воронежа выехали. Нас бомбили в течение 20 часов беспрерывно. За это время пролетело 75 самолетов, и все бомбы были сброшены на наши санитарные поезда. Такой ужас и страх, не рассказать.
Солдаты выползают из вагонов в лес, а их тут же расстреливают у нас на глазах, и мы не можем ничем помочь. Страшно. Да, очень страшно. Все это горело, пылало. А немцы свое дело сделали и улетели. А мы остались в лесу у пылающих вагонов. В нашем эшелоне от наших полутора тысяч человек осталось всего 100 раненых. Кто мог уйти — ушли. Но главное, что первый раз мы встретились с таким диким предательством.
Наш начальник поезда, комиссары тогда были, решили бросить сто человек раненых и уйти через лес в Тамбов. Мы, значит, собрали комсомольское собрание и решили, что так ни в коем случае поступать нельзя. И вот нас оставили, двух медсестер — меня и Раечку — и четырех санитаров. А предатели наши взяли все, что было только возможно — перевязочные материалы, продукты питания — и ушли пешком через лес. Команда поезда из 60 человек сбежала. А нам оставили взрывчатку и приказали при приближении немцев подорвать себя и поезд с ранеными, но ни в коем случае не сдаться в плен.
Они ушли, а мы всю ночь таскали на носилках этих раненых на шоссейную дорогу, которая шла параллельно железной. Через лес мы их перетащили, положили на край дороги с одной и с другой сторон и прикрыли их ветками. А что дальше? Оставалось только ждать.
Жара, лето, июль. Раненые наши были все в тяжелейшем состоянии, все в гипсе. Помню, у солдата одного вся нога была в гипсе, а на месте огромной раны было сделано открытое «окно», чтобы перевязку можно было делать.
Да уж, перевязку. А чем ее делать, если все забрала команда поезда? Делать нечем, мухи летают и садятся на раны. Смотришь, а там черви уже ногу грызут. Они расползаются под гипсом, у солдат все чешется. Диким, просто диким голосом кричали они, а мы ничем не могли им помочь.
Для того что их покормить, мы ходили по этим разбитым вагонам и собирали там
 Сдала этих раненых, 95 человек, получила расписку. Я села в машину. Нет, не села — просто упала, как подбитая, и ничего не чувствовала. Вот говорят, в состоянии прострации человек — в таком состоянии была я.
Сдала этих раненых, 95 человек, получила расписку. Я села в машину. Нет, не села — просто упала, как подбитая, и ничего не чувствовала. Вот говорят, в состоянии прострации человек — в таком состоянии была я.
Мы проезжали через железную дорогу, а там разбитые эшелоны, и, главное, там разбитые ящики с тихоокеанской сардиной в прованском масле. Мы обалдели. Я набрала вот этих вот банок, потому что там медсестра и еще 4 санитара в поезде меня ждали. Дали мне еще две бутылки водки. Мы поехали дальше. Машина останавливается, я должна была выйти. И вдруг мне кричат: скорей, скорей, машина взорвется. Я выпрыгиваю из этой машины и попадаю в
Прошло время, мы
Когда я пришла домой, моя мама меня увидела и упала в обморок. Еще бы. Я худющая, в пилотке, и на каждом пальце нарывы.
Но и через неделю после того, как мы приехали, пришли все те, кто нас тогда бросил. И начальник, и комиссар пришли в Тамбов. Но они думали, что мы там погибли, а мы вперед них приехали. По итогу, их судил ревтрибунал. Я не знаю, какая у них была мера наказания, потому что нас посадили на другой поезд и отправили на Сталинградский фронт.
Сталинград
Если в Воронеже у нас были оборудованные вагоны, классные такие, то на Сталинград нас везли уже в товарных вагонах. Да, это было ужасно. 1942 год, зима, минус 45 градусов. Раненых солдат привозили на железнодорожную линию и прям там оставляли. А они все замерзшие, окоченевшие. И мы их грузим в эти товарные вагоны, битком набиваем их, лишь бы только вывезти их оттуда, с этого пылающего Сталинграда.
 Было тяжело, не рассказать как. Девчонкам ведь по 18–19 лет было. Сейчас вот смотришь фильмы про войну, там раненого несут человек 5 мужиков, а мы вдвоем таскали. Поэтому у меня детей и нет. До конца Сталинградской операции, до 3 февраля 1943 года я служила в этом санитарном поезде. Было 3 товарных вагона на одну сестру. В каждом вагоне было по санитару. В хороших вагонах, таких, как были в Воронеже, можно было из вагона в вагон перейти, в туалет сходить или принести обед. Здесь этого сделать было нельзя.
Было тяжело, не рассказать как. Девчонкам ведь по 18–19 лет было. Сейчас вот смотришь фильмы про войну, там раненого несут человек 5 мужиков, а мы вдвоем таскали. Поэтому у меня детей и нет. До конца Сталинградской операции, до 3 февраля 1943 года я служила в этом санитарном поезде. Было 3 товарных вагона на одну сестру. В каждом вагоне было по санитару. В хороших вагонах, таких, как были в Воронеже, можно было из вагона в вагон перейти, в туалет сходить или принести обед. Здесь этого сделать было нельзя.
У
Медсанбат
В феврале 1942 года наш поезд расформировали и отправили в Саратов в распределительный пункт, где формировали части. Очень много народу там было, потому что со Сталинграда многие части расформировывали. Но и вот, две нас девчонки, я и моя подружка, Валя Страхова. Нас откомандировывают в медико- санитарный батальон, в медсанбат 9 корпуса 3 танковой гвардейской армии, которая формировалась под Тулой.
Ну, я вместе со своей тамбовской подругой подняла руку. И вот нас с ней вдвоем везут в пехотную роту, но мы не представляли, что это такое. В поезде
Я никогда в бой не ходила и не знала, что это такое. И вот мы заняли оборону, я, значит, в окоп прилегла. Когда все побежали в бой с криками «За Родину, за Сталина», мне казалось, что в меня все пули попадут. И не вылезти мне было из окопа, как будто меня там прилепили, так страшно было. И вот я вылезти смогла только тогда, когда услышала дикий вой солдата. Я вылезаю, смотрю, а у него глаз в руке лежит, и из глазницы — фонтан крови. Тут уже за себя страх прошел, слышу: там кричит, там кричит, бой идет. Солдаты бегут, их ранит, надо оказать помощь. Не передать никому и никогда этого чувства страха, ужаса и желания помочь.
Задание мы выполнили. Однако мы никак не могли пробиться к Киеву, потому что там была пересеченная местность. И нашей танковой армии было очень тяжело преодолеть ее, потому что немцы оборону держали очень сильно. Нам пришлось уже в октябре вернуться назад, пройти 250 километров вдоль Днепра и форсировать его в другом месте.
Был приказ Сталина к 7 ноября Киев освободить от фашистов. И 6 ноября Киев был освобожден, мы вошли в город. Наша третья танковая армия наступала там ночью. Танки шли с зажженными фарами, с включенными сиренами, такая была психическая атака. Это был триумф. Но нам еще пришлось идти и идти.
Мне пришлось всю Украину проползти на четвереньках, потому что оказывать помощь тяжелейшим раненым можно только на четвереньках. И потом, ты перевяжешь его, а он не может идти, его нужно на себе тянуть в
Помню такой случай, ко мне
 У нас были карточки передового района. Когда я делала перевязку больному, я должна была там написать, когда и где он был перевязан и указать свою фамилию. Если же я жгут наложила, то через два часа его нужно снять, потому что начнется омертвление тканей. Если же после ранения в живот проходит 6 часов, медики операцию уже не делали, потому что перитонит может быть. Но люди же выживали! И не болели так, как сейчас.
У нас были карточки передового района. Когда я делала перевязку больному, я должна была там написать, когда и где он был перевязан и указать свою фамилию. Если же я жгут наложила, то через два часа его нужно снять, потому что начнется омертвление тканей. Если же после ранения в живот проходит 6 часов, медики операцию уже не делали, потому что перитонит может быть. Но люди же выживали! И не болели так, как сейчас.
Идешь, бывало, дождь льет, брюки ватные насквозь мокрые. Обсушиться негде, а в ночь мороз — все это колом замерзает. Если нас в деревню привезли, мы могли хоть
Помнится, уже в начале 1945 года у меня были вдрызг рваные сапоги. Не было моего размера. Принесли мне
Песни и пляски
Чуть позже меня вдруг откомандировывают в политотдел армии. Зачем? Я же ничего плохого не сделала. И вот я в таком виде — ватные брюки рваные вдрызг, телогрейка, две гранаты по бокам и примотанные на бинты варежки висят. Приходим.
Он смотрит на меня и говорит: «Оооой, ну и артистка». «Ну, какая я артистка?» — спрашиваю я у него. «А ты знаешь, зачем тебя откомандировали? В ансамбле будешь плясать», — сказал тогда он мне.
 В общем, отправил он меня в соседнюю хату и приказал помыться, вывести вшей и привести себя в порядок. Пришла я туда, а хозяйка на меня смотрит и плачет, такой вид у меня был «приличный». Печку она истопила и положила туда одежду. Короче говоря, вместе с вошками мое обмундирование и загорелось. Благо старшина, который был вместе со мной откомандирован, дал свои трусы и гимнастерку, а шинель у меня была. Значит, я в таком виде хожу, и вдруг к нам приходит мой будущий муж. И вот при разговоре выясняется, что мы у него под танком прятались в 1943 году. Я в пехотной роте служила, а он был
В общем, отправил он меня в соседнюю хату и приказал помыться, вывести вшей и привести себя в порядок. Пришла я туда, а хозяйка на меня смотрит и плачет, такой вид у меня был «приличный». Печку она истопила и положила туда одежду. Короче говоря, вместе с вошками мое обмундирование и загорелось. Благо старшина, который был вместе со мной откомандирован, дал свои трусы и гимнастерку, а шинель у меня была. Значит, я в таком виде хожу, и вдруг к нам приходит мой будущий муж. И вот при разговоре выясняется, что мы у него под танком прятались в 1943 году. Я в пехотной роте служила, а он был
А в мае
Уже из Берлина нас послали в Чехословакию, потому что фашисты хотели подорвать Прагу. Чехословацкое правительство попросило у нас помощи, и наша армия освобождала Прагу. Тогда наши танки входили в город по коврам, по цветам, стояли столы, накрытые всевозможными яствами. И да, мы были на седьмом небе от счастья, что война закончилась.
После войны, в 1946 году мы приехали в Тамбов к моим родителям. А в Тамбове однокомнатная квартира была, и надо было
И на войне есть место любви. С мужем мы прожили 54 года. 16 лет назад его похоронила. Время летит.