Бобровский и
Пустота,
или как рассказать о горе при помощи ветра, реки и сожжённой земли
или как рассказать о горе при помощи ветра, реки и сожжённой земли
9 апреля
исполнилось сто лет со дня рождения Иоганнеса Бобровского: писателя и солдата,
который родился в Восточной Пруссии, понял эту землю больше, чем кто-то другой, и
своим примером показал, что один из способов борьбы со злом — это искусство.
Редакция «Нового Калининграда.Ru» рассказывает о поэте и прозаике, цитирует некоторые
новеллы и иллюстрирует пейзажами Юлии Алексеевой.
Только представим. Есть город, который
отделяют от границы с Литвой несколько дворов. Кажется, здесь всего одна гостиница, и от
государственной границы её отделяют пара улиц, а от главной площади — десяток шагов. Теперь
поместим в этот город человека. Он просыпается утром у себя в номере от жары и слепящего
света — апрель, но центральное отопление ещё не отключили. Он открывает окно с двойными
рамами, идёт в душ, открывает кран и ждёт, пока пойдёт горячая вода. После он спускается на
завтрак, потом — выходит в город и часть дня проводит в праздном шатании, граничащим с
осторожным любопытством: а здесь у нас что, а здесь? Здесь стены, заборы, здесь стена, на
которой была ещё одна стена, а теперь пласт штукатурки и копоти, здесь окаменевший рыцарь
держит другие, чистые стены, а здесь дом, от которого на всю улицу пахнет сыростью — лучше
обойти его стороной. А здесь рынок: кто-то продаёт ношеную одежду, кто-то — пушистых цыплят
с голыми шеями, кто- то — коз, запертых в деревянный ящик, а кому продавать нечего — сидит
на табуретке, и у ног его самый бедный товар этого дня — пара розоватых головок чеснока в
старой готовальне, шелуха, в общем-то. Здесь ещё один забор, из рабицы, а за забором течёт
река. А вот здесь граница: если у человека есть паспорт с визой, он может её перейти по
этому мосту, названному в честь королевы. Представим, что переходит, но перед этим покупает
что-то в магазине беспошлинной торговли — бутылку шартреза. На границе его спрашивают, что
вы будете здесь делать, какова цель вашего визита — он отвечает, что ничего особенного:
ходить, смотреть направо, налево. Ему ставят печать, человек оказывается в литовском
посёлке, в котором нет продуктового магазина, но есть закрытый пункт обмена валют и
одно-единственное кафе с парой столов на улице. Он обедает, хотя ему и не хочется, смотрит
направо, налево — везде река, и тот берег, с которого пришёл, тонет в дымке. Так тихо, что
слышно, как там слушают музыку. Человек ходит по двум улицам: на одной дети вынесли щенков и
теперь сидят вокруг них стайкой и гладят; на другой под деревом, которое ещё думает,
распускаться ему или нет, сидит мужчина, и его жена стрижет ему волосы. Человек постарается
вернуться в другую страну до темноты, но стемнеет как раз в тот момент, когда он задержится
на несколько минут на мосту, чтобы посмотреть на густую, но быструю воду. Перед гостиницей
он выкурит последнюю сигарету, поднимется в номер, потрогает батарею, но перед сном не будет
закрывать окна, а просто поставит на подоконник ботинки. Следующее утро будет таким же
слепым и жарким. Возможно, до отъезда он ещё успеет сходить в другую часть города, может
быть, ещё раз сходит посмотреть на реку, но это только наше допущение.
Мы всё это представили, очень хорошо. Теперь внесём
ясность. Река называется Неман. Город с гостиницей — Советск, а раньше Тильзит. Посёлок на том
берегу — Панемуне. Мы можем дать имя и человеку: назовём, его, например, Иоганнес, но это
невозможно, он не был в этих местах со Второй мировой, а после и не мог здесь оказаться. Поэтому
пусть герой предыдущих абзацев останется безымянным — это ничего не изменит, любой на его месте
делал бы всё описанное.
В современном Советске нет музея-квартиры писателя Иоганнеса Бобровского. Есть типовая мемориальная доска на стене одного дома по улице Смоленской: бурый мрамор, на котором имя с фамилией, годы жизни (1917 — 1965), род деятельности (немецкий писатель, поэт, общественный деятель) и фраза «на этой улице родился и жил», заметьте — «не в этом доме». Родился он в «семье буржуазной, но в то же время крайне благочестивой»: отец — чиновник железнодорожного ведомства, мать — домохозяйка. В Тильзите жил недолго: семья переехала в Кёнигсберг, когда Иоганнесу исполнилось одиннадцать. В Кёнигсберге он окончил гимназию, брал уроки игры на органе. В 37-м году вместе с семьей переехал в Берлин, там изучал искусствоведенье. Потом был призван в Вермахт, потом отправился воевать — и воевал в Польше, во Франции, в Восточной Пруссии, в СССР. Потом попал в плен (1945-й год) и провёл в нём четыре года: в лагерях от Новошахтинска до Новочеркасска. После плена вернулся в Берлин, точнее, в его восточную часть, и там написал практически всё, что написал — сотни стихов, десятки новелл, пару романов. И все они, как кажется, об одном — откуда приходит зло, по каким приметам мы понимаем, что это именно оно, и что мы можем сделать ему в ответ: ударить, закричать, сбежать, спрятаться, притаиться, сделать вид, что зла нет.
Бобровский прожил немного: сорок восемь лет. У него была не очень героическая жизнь: в злой век так жили если не все, то многие — по очереди становились то охотниками, то загнанными зверьми, то солдатами, то движущимися мишенями, то жертвами, то палачами. Рождались во время одной войны, проживали детство и часть юности в то время, которое постепенно переставало быть мирным, заключали «военные браки» во время коротких отпусков, а потом снова возвращались к фронту, и так по кругу. Ему досталась также не очень героическая смерть (как будто бы её можно выбрать по собственному усмотрению): можно было бы написать для красоты, что умер он рано, потому что у него было слабое сердце, но нет — он умер из-за неудачной операции по удалению аппендикса, сепсис, кровоизлияние в мозг. Да и внешне он не выглядел героем. Вот есть некоторое количество чёрно-белых карточек: на них он рыхлый, крупный, с какой-то большой головой, с какими-то большими руками, с добрым и спокойным взглядом и спрятанной улыбкой: недотёпа, увалень, его в гимназии два раза на второй год оставляли, он на войну не рвался, он вообще не хотел воевать, а пришлось — и он тянул провода, ремонтировал телефонные линии, полз между линий, укрывался.
А что он делал в момент тотального напряжения? Тут важно понимать саму возможность: одновременно быть в бою и находиться над схваткой. Что делает человек в момент тотальной мобилизации всего чувственного: зрения, слуха, обоняния, осязания? Он может раскрыть глаза ещё шире и запомнить всё как есть — этот свет, этот запах, этот ландшафт. Бобровский, кажется, поступает с точностью до наоборот: он пытается зажмуриться, сгруппироваться, сжаться до невозможности и оказаться там, где мир ещё кажется прочным — в родном ландшафте, в полях под Тильзитом и Рагнитом. Но вот что происходит с оптикой: вроде бы знакомый пейзаж, но мирным он притворяется из последних сил, в нём уже что-то не так. Над рекой и полем дым, но не оттого, что погода такая, а оттого, что всё горело. Что-то блестит, но не вода, а битое стекло. Вроде бы поле, но не чистое — тут стояла деревня, но её больше нет. Всё уничтожено: щебень и камень, обуглившиеся ветви, обрушенные берега. И горе без конца и края: «земля распределенного горя».
В марте 1943-го года Бобровский пишет в открытке близким из Пскова: «Первое, чему мы тут учимся, — это видеть. Пейзаж, как его ни разглядывай, несёт нам одну пустоту». Мы можем поставить знак равенства между пустотой и пустырём, но кроме этого должны ещё и понять, что на пустырь, на пустоту нужно научиться смотреть. Это не отсутствие пейзажа, а ландшафт, застывший между тем, чего больше нет, и тем, что ещё не случилось. В прозаических и поэтических текстах Бобровского этот обнажённый и в то же время скрытый контекст иллюстрирует ту драму, которая случилась в Европе ХХ века, но кроме этого, вспоминая о родной земле, он вспоминает обо всём том, что было здесь до Второй мировой: как жили здесь немцы, которые «звались Каминскими, Томашевскими и Коссаковскими, поляки же Лебрехт и Германн. Именно так оно и было». И рождается этот текст из бог весть какого сора: цветения, зелени, тумана, чистой воды, но ещё — ржавого железа, битого стекла, свинца, кости, выжженной огнём травы.
«Не хочу я на это смотреть» — «Да иди же, я тебе покажу», — говорит один героя Бобровского другому. В руине, в пустыре, в любом ландшафте, уничтоженном войной, есть потенциал для возрождения, возможность начать всё сначала: деревья зацветут не этой, так следующей весной, заблестит под солнцем река, зазеленеет поле, и человек, который «весь не умирает», всё же вернётся туда, где столько не был, и пройдёт по мосту, и посмотрит на воду, пусть даже в этом тексте. Давайте представим, что Бобровский прожил не сорок восемь лет, а больше, приехал сюда после того, как не стало «железного занавеса», проснулся апрельским утром, белым, слепым и жарким.
В современном Советске нет музея-квартиры писателя Иоганнеса Бобровского. Есть типовая мемориальная доска на стене одного дома по улице Смоленской: бурый мрамор, на котором имя с фамилией, годы жизни (1917 — 1965), род деятельности (немецкий писатель, поэт, общественный деятель) и фраза «на этой улице родился и жил», заметьте — «не в этом доме». Родился он в «семье буржуазной, но в то же время крайне благочестивой»: отец — чиновник железнодорожного ведомства, мать — домохозяйка. В Тильзите жил недолго: семья переехала в Кёнигсберг, когда Иоганнесу исполнилось одиннадцать. В Кёнигсберге он окончил гимназию, брал уроки игры на органе. В 37-м году вместе с семьей переехал в Берлин, там изучал искусствоведенье. Потом был призван в Вермахт, потом отправился воевать — и воевал в Польше, во Франции, в Восточной Пруссии, в СССР. Потом попал в плен (1945-й год) и провёл в нём четыре года: в лагерях от Новошахтинска до Новочеркасска. После плена вернулся в Берлин, точнее, в его восточную часть, и там написал практически всё, что написал — сотни стихов, десятки новелл, пару романов. И все они, как кажется, об одном — откуда приходит зло, по каким приметам мы понимаем, что это именно оно, и что мы можем сделать ему в ответ: ударить, закричать, сбежать, спрятаться, притаиться, сделать вид, что зла нет.
Бобровский прожил немного: сорок восемь лет. У него была не очень героическая жизнь: в злой век так жили если не все, то многие — по очереди становились то охотниками, то загнанными зверьми, то солдатами, то движущимися мишенями, то жертвами, то палачами. Рождались во время одной войны, проживали детство и часть юности в то время, которое постепенно переставало быть мирным, заключали «военные браки» во время коротких отпусков, а потом снова возвращались к фронту, и так по кругу. Ему досталась также не очень героическая смерть (как будто бы её можно выбрать по собственному усмотрению): можно было бы написать для красоты, что умер он рано, потому что у него было слабое сердце, но нет — он умер из-за неудачной операции по удалению аппендикса, сепсис, кровоизлияние в мозг. Да и внешне он не выглядел героем. Вот есть некоторое количество чёрно-белых карточек: на них он рыхлый, крупный, с какой-то большой головой, с какими-то большими руками, с добрым и спокойным взглядом и спрятанной улыбкой: недотёпа, увалень, его в гимназии два раза на второй год оставляли, он на войну не рвался, он вообще не хотел воевать, а пришлось — и он тянул провода, ремонтировал телефонные линии, полз между линий, укрывался.
А что он делал в момент тотального напряжения? Тут важно понимать саму возможность: одновременно быть в бою и находиться над схваткой. Что делает человек в момент тотальной мобилизации всего чувственного: зрения, слуха, обоняния, осязания? Он может раскрыть глаза ещё шире и запомнить всё как есть — этот свет, этот запах, этот ландшафт. Бобровский, кажется, поступает с точностью до наоборот: он пытается зажмуриться, сгруппироваться, сжаться до невозможности и оказаться там, где мир ещё кажется прочным — в родном ландшафте, в полях под Тильзитом и Рагнитом. Но вот что происходит с оптикой: вроде бы знакомый пейзаж, но мирным он притворяется из последних сил, в нём уже что-то не так. Над рекой и полем дым, но не оттого, что погода такая, а оттого, что всё горело. Что-то блестит, но не вода, а битое стекло. Вроде бы поле, но не чистое — тут стояла деревня, но её больше нет. Всё уничтожено: щебень и камень, обуглившиеся ветви, обрушенные берега. И горе без конца и края: «земля распределенного горя».
В марте 1943-го года Бобровский пишет в открытке близким из Пскова: «Первое, чему мы тут учимся, — это видеть. Пейзаж, как его ни разглядывай, несёт нам одну пустоту». Мы можем поставить знак равенства между пустотой и пустырём, но кроме этого должны ещё и понять, что на пустырь, на пустоту нужно научиться смотреть. Это не отсутствие пейзажа, а ландшафт, застывший между тем, чего больше нет, и тем, что ещё не случилось. В прозаических и поэтических текстах Бобровского этот обнажённый и в то же время скрытый контекст иллюстрирует ту драму, которая случилась в Европе ХХ века, но кроме этого, вспоминая о родной земле, он вспоминает обо всём том, что было здесь до Второй мировой: как жили здесь немцы, которые «звались Каминскими, Томашевскими и Коссаковскими, поляки же Лебрехт и Германн. Именно так оно и было». И рождается этот текст из бог весть какого сора: цветения, зелени, тумана, чистой воды, но ещё — ржавого железа, битого стекла, свинца, кости, выжженной огнём травы.
«Не хочу я на это смотреть» — «Да иди же, я тебе покажу», — говорит один героя Бобровского другому. В руине, в пустыре, в любом ландшафте, уничтоженном войной, есть потенциал для возрождения, возможность начать всё сначала: деревья зацветут не этой, так следующей весной, заблестит под солнцем река, зазеленеет поле, и человек, который «весь не умирает», всё же вернётся туда, где столько не был, и пройдёт по мосту, и посмотрит на воду, пусть даже в этом тексте. Давайте представим, что Бобровский прожил не сорок восемь лет, а больше, приехал сюда после того, как не стало «железного занавеса», проснулся апрельским утром, белым, слепым и жарким.

Такой сегодня день. Серый и
грязно-жёлтый. Как талый лёд. Когда он трескается, осколки кажутся белыми, потому что из трещин
проступает вода, совсем чёрная. Такой уж день. И всё мокро от грозы, которая благополучно добралась
от моста до деревни и тут-то лопнула, туда-сюда, а несколько ударов прямо в реку, потом полил
проливной дождь и лил до пяти утра. Небо потоками извергало воду, но так и не отмыло себя до блеска,
ни себя, ни день, ни даже опушку леса за деревней, ни Стасулова сада, ни кустов ежевики у реки.

И тогда приезжий думает, что
и сам этот край как музыка. Прогалина становится всё шире и шире, лес кончается молодым березником,
потом идёт кустарник, потом начинаются луга, которые мягко, по-кошачьи спускаются к песчаному
берегу. Да это ясно и без музыки, которую отсюда уже и нельзя различить, которая, наверное, уже и
кончилась давно.

Вечером на реке всегда так:
кажется, словно другого времени суток не существует. Идёшь, идёшь и не замечаешь, как остановился.
Чувствуешь под ногами нетвёрдый песок и всё же стоишь, как на камне. Приложишь к уху ладонь и
услышишь то, чего никогда не бывает. Песчаные ямы светятся зеленоватым блеском, берег почернел, и,
едва зайдёт солнце, река становится совсем белой. И течёт далеко, к той мрачной горе, где живут
литовские духи и призраки наполеоновских солдат и охраняют сокровища — каждый своё.

Ветер всё ещё твердит то же
имя. Слышен быстрый, шершавый звук: это шумит река. Над нею пустое небо, как водная гладь, без
глубины, синева, пролитая кем-то, неизвестно где, которая растеклась и побледнела, но всё ещё ярко и
равномерно светится до самой линии горизонта.

С рекой Лейб до сих пор
разговаривает, с дорогой же перестал. Он идёт вдоль берега до самого Рамбинаса, где берег вдруг
круто поднимается, а потом резко падает вниз, словно хочет совсем перекрыть реку, где земля
становится чёрной, идёт до самых песчаных ям на лесной опушке. Что бы ему ни попадалось — камешек
ли, птичьи перья, стекло, — всё он кидает в реку и радуется, когда перья, медленно кружась, уплывают
и когда камни быстро ложатся на светлое дно, а осколки стекла сверкают, пока их не занесёт плавучим
стеклом.

Аир… Нет, аромат этот
невозможно описать, он пахнет прозрачной водой, прогретой солнцем водой, рекою, но не с
известняковым или там илистым дном, а с таким светлым чуть красноватым песочком, и на дно это
медленно оседают взбаламученные последним дождём частички земли да истлевший листок, соломинка, а
поверху шныряют паучки-водомеры, вот какая это вода. Но сюда же примешивается откуда-то тонкая, едва
уловимая сладость, и под сладостью ещё горчинка, совсем уж неизвестно откуда взявшаяся. Из земли, из
прибрежной почвы, где аир растёт и куда он проталкивает свои белые, жёлтые и розовые корни, скажете
вы, из прибрежной земли, всегда немного вязкой, но это значит ровно ничего не сказать.

Взгляд скользит по лугам. За окном с каждым днём всё пустыннее. Рожь убрали. С горохового поля взлетают птицы, застывают в воздухе, как будто бы там, вдали, кто-то поставил заборы, очень высокие, но они нипочём для птиц, которые ненадолго садятся на них и потом летят ещё выше.

Земля проваливается у меня
под ногами. Я протаптываю большую долину, чёрная земля податливее, чем белая. И вот туда хлынет
море, всё затопит: Гальтерн, Штразден, Риттельсдорф, Вальгален, Бирш.
И всё записано.
И всё записано.

Лёгкой поступью движется
вечер с его светлыми красками. Из воды на песок выходит тишина. С высокой дюны открывается вид на
бухту и дальше к югу, на продолговатое озеро, тёмный свет которого ещё сильнее оттеняют светлые
волны моря, на озеро между полями, песком и зелёными пятнами леса, вытянувшееся до самого Ангерна с
острым шпилем его колокольни и ярко озарённой крышей перед нею.
В куполе тёмного неба блеснул белый свет, вот он медлит в самой вышине — и вдруг стремительно рушится вниз: он падает ниже и ниже и разливается над тёмными облаками сурового неба, по которому уже мчится вихрь и мчит за собой этот резкий скрежет от самой бухты, всё дальше и дальше, над Гальтерном, Штразденом, Риттельсдорфом, Вальгаленом, Биршем, над долиной, потом ещё ниже, над цветами дрока, и вдруг круто поворачивает назад и снова к бухте, и белая дорога бежит далеко по воде.
В куполе тёмного неба блеснул белый свет, вот он медлит в самой вышине — и вдруг стремительно рушится вниз: он падает ниже и ниже и разливается над тёмными облаками сурового неба, по которому уже мчится вихрь и мчит за собой этот резкий скрежет от самой бухты, всё дальше и дальше, над Гальтерном, Штразденом, Риттельсдорфом, Вальгаленом, Биршем, над долиной, потом ещё ниже, над цветами дрока, и вдруг круто поворачивает назад и снова к бухте, и белая дорога бежит далеко по воде.

Из развалин угловой башни
доносится дыхание гнили и смешивается с душным запахом крушины.
Больше ни слова. Над молчанием теперь каждый день с заливных лугов поднимается утро, белый и серый свет, и резкие крики чибисов словно режут его на части.
Больше ни слова. Над молчанием теперь каждый день с заливных лугов поднимается утро, белый и серый свет, и резкие крики чибисов словно режут его на части.

Отросток холма выбегает
прямо на равнину, за ним берег ещё круче и внезапно обрывается к реке. Гладь воды бела и блестит, на
прибрежные кусты набегают буруны, рушатся, захлёстывая друг друга.

И ещё я знаю, что наступает
вечер. После всего, что было. На высоком берегу реки, чуть подальше военных автомашин, стоят
соломенные стога и блестят странным блеском, когда на них падает лунный свет. Что над рекою встают
туманы. И мы могли бы перейти мост и побродить по городу в этот ночной час, если бы нас не ждала
неизбежная встреча с самим собою, именно тут, в этом городе, совсем необъяснимая встреча.
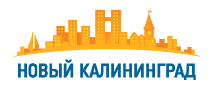
© 2017, «Новый Калининград.Ru»
Идея, вступительный текст — Александра Артамонова, цитаты Иоганнеса Бобровского из книги "Избранное", издательство "Молодая гвардия", Москва, 1971 г.
Фото — Юлия Алексеева, Артём Килькин