Партнерский материал
Осколки
Специальный проект, посвященный открытию Новой синагоги в Калининграде и
восьмидесятилетию событий «Хрустальной ночи»
В ночь с 9 на 10
ноября 1938 г. в Германии и Австрии прошли массовые еврейские погромы, вошедшие в историю как
«Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». Спустя пару десятилетий в Германии от красивой
метафоры поспешат избавиться: случившееся назовут «Ночью ноябрьских погромов». Но слово
«хрусталь» не только красивое, завораживающее тем, как соединяются в нем хрупкость и крепкость,
но и очень точное. Абсолютную тишину, в которой скрыта тревожность, мы назовем хрустальной. И,
воспользовавшись теми метафорами, которые всегда под рукой, добавим, что тишина еще бывает
стеклянной: тронешь ее — и зазвенит.
Многие из тех, кто сейчас свидетельствует о той
ночи 38-го года, ссылаясь на воспоминания собственные или воспоминания родителей (память же уже
обо всем этом общая, всё важно, всё пойдёт в дело), отмечают, как было вечером накануне: «Как
будто бы все вдруг куда-то уехали». Дальнейшая история покажет, что все не уехали, а
затаились, спрятались, притворились невидимыми. А вот куда-то уехать, исчезнуть, сделать вид,
что их никогда здесь не было, придется как раз тем, кто эту тишину заметил.
Тишина разрушилась звоном витрин и окон, которые били по всему Кёнигсбергу. На деле же понятно,
что не только витрины разлетелись (в конце концов, осколки сметут, у освободившихся торговых
площадей появятся новые хозяева, стекольщик придет и вставит новое стекло — вот было у них
работы), а вся жизнь — и частная, приватная, и общая, цельная — полетела вдребезги, захрустела
под сапогом.
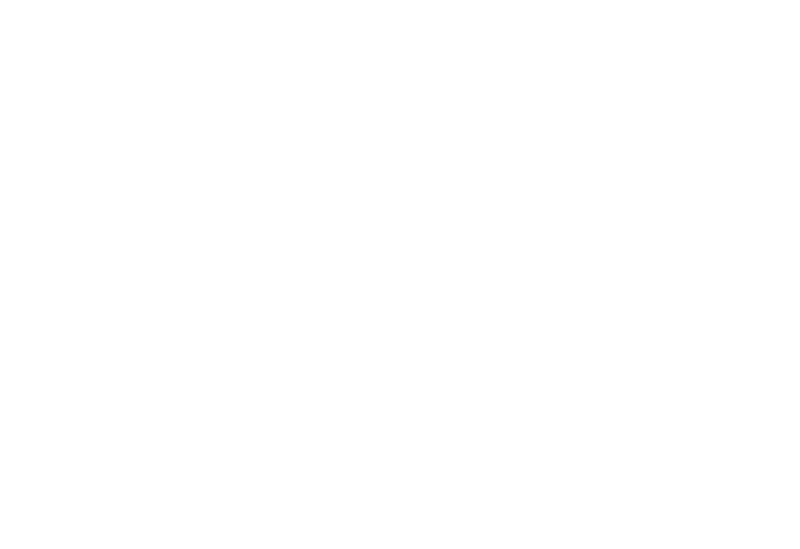
От тех событий, происходивших в
Кёнигсберге, осталось небольшое количество архивных фотографий: естественно, это черно-белые
снимки, на которых горожане, одетые по погоде в шляпы и пальто, проходят улицами, где каждая
витрина — зияющая рана, содержимое которой вывалено наружу, на всеобщее обозрение. Кто-то
проходит мимо, кто-то стоит рядом и смотрит как будто с недоумением. Был теплый, что
называется, вещный мир по ту сторону стекла — смотри, но не трогай, не прислоняйся, или
трогай, но если тебе разрешили или ты имеешь на это право, и был мир холодный, со своими
законами, в том числе и «нюрнбергскими», который к стеклу до поры до времени не прикасался.
О катастрофе иногда что-то говорят, но никто к ней не готов и старается не думать об этом.
Разбитая прозрачная граница между тем миром и этим в «Хрустальную ночь», которую принято
считать началом Холокоста, поделила весь мир и историю человечества на до и после. Всё, что
будет сопровождать дальнейшую бесчеловечную историю изгнаний, убийств, унижений и горя — это
звон стекла, запах гари, крик одних и молчание других — до поры до времени мертвая тишина.
«Хрустальная ночь» внесла глубокие изменения в
жизнь кёнигсбергских евреев. Вообще, история евреев в Кёнигсберге берет своё начало в 1508 году:
тогда в город были допущены два еврейских врача. Принято считать, что община города была
небольшой (в лучшие времена ее численность составляла 5 000 человек) по сравнению с общинами
Вильно, Ковно и Варшавы, но активной и довольно влиятельной. Евреи из Кёнигсберга внесли большой
вклад в немецкую и мировую историю. Отсюда пошел род коммерсантов и меценатов Фридлендеров —
именно из этой семьи происходит Эдуард фон Симсон, юрист и профессор университета, он возглавлял
Франкфуртское национальное собрание, а позже и Рейхстаг, и именно он руководил депутацией,
предложившей императорскую корону кайзеру Фридриху-Вильгельму IV. Другим видным политическим
деятелем был Иоганн Якоби, врач, борец за эмансипацию евреев и радикальный социал-демократ. Ему
принадлежит известная фраза, брошенная Фридриху-Вильгельму IV: «Несчастье королей в том, что они
не хотят слышать правду». Евреем был и Мориц Беккер — основатель янтарного промысла в поселке
Пальмникен и мануфактуры по обработке янтаря в Кенигсберге.
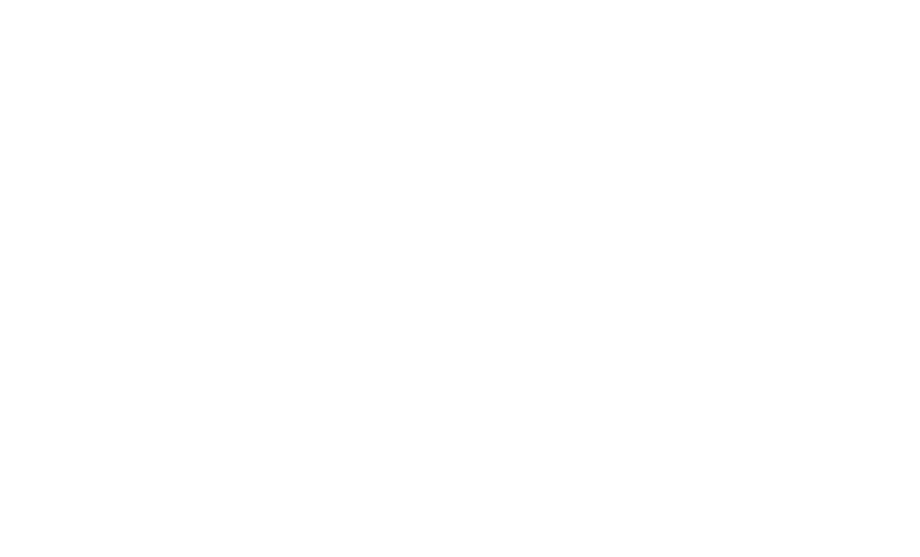
Немало еврейских имен было
связано и с Альбертиной. Так, идеи профессора Германа Минковского, сперва преподавателя
Кёнигсбергского, а после и Гёттингенского университета, повлияли на Теорию относительности,
автор которой, Альберт Эйнштейн, был учеником Минковского. В Кёнигсберге прошли детство и
юность философа Ханны Арендт, известной своими работами об истоках тоталитаризма и
репортажами с процесса над нацистским преступником Адольфом Эйхманом.
Если говорить о деятелях искусства, то здесь жил Вернер Рихард Хайман, создатель шлягеров и основатель жанра «мюзикл» в немецком кино. В Кёнигсберге работал известный кантор и синагогальный композитор Эдуард Бирнбаум. В тридцатые годы многие из кенигсбергской еврейской общины отправились в Палестину. В их числе и уроженка Кёнигсберга Лея Шлосберг: в возрасте шести лет ее увезли из города родители, а когда она выросла, то стала женой Ицхака Рабина и известным общественным деятелем Израиля. После окончания Второй мировой войны город удалось покинуть Михаэлю Вику, который стал известным музыкантом, а весь свой опыт житья и выживания изложил в книге «Закат Кёнигсберга».
Если говорить о деятелях искусства, то здесь жил Вернер Рихард Хайман, создатель шлягеров и основатель жанра «мюзикл» в немецком кино. В Кёнигсберге работал известный кантор и синагогальный композитор Эдуард Бирнбаум. В тридцатые годы многие из кенигсбергской еврейской общины отправились в Палестину. В их числе и уроженка Кёнигсберга Лея Шлосберг: в возрасте шести лет ее увезли из города родители, а когда она выросла, то стала женой Ицхака Рабина и известным общественным деятелем Израиля. После окончания Второй мировой войны город удалось покинуть Михаэлю Вику, который стал известным музыкантом, а весь свой опыт житья и выживания изложил в книге «Закат Кёнигсберга».
К середине тридцатых
годов прошлого века численность еврейского населения Кёнигсберга составила 3170
человек. Ко времени прихода к власти нацистов в городе было пять синагог,
сиротский дом и дом престарелых, три еврейских кладбища, множество различных
еврейских организаций — религиозных, благотворительных, культурных, сионистских.
Строительство последней синагоги в Кёнигсберге было окончено в 1896-м году. По
рассказам современников, Новая Либеральная Синагога стала одной из самых больших
и красивых в Европе. Три входные арки были украшены ажурными фронтонами,
посредине находилось огромное окно-роза со звездой Давида, фасад украшали две
остроконечные башенки, множество элементов декора и прекрасный купол,
завершающий громадную шестигранную башню высотой 46 метров. Главный зал вмещал
около 1500 человек, помимо него здесь разместились конфирмационный, траурный
залы, отдельный зал для заседаний и библиотека. Также был установлен орган, на
котором играл знаменитый композитор Эдуард Бирнбаум. В 1904 году рядом с
синагогой было возведено здание еврейского сиротского приюта, сохранившееся по
сей день.
Важно понимать, как синагоги — и Новая синагога
в Кёнигсберге не стала исключением — работали при нацистском режиме. В 35-м году приняты были
«Нюрнбергские законы», которые закрывали евреям доступ практически ко всем профессиям и
должностям, а также к культурной, общественной и политической жизни. В сложившихся условиях
синагога стала учебным и культурным центром для народа, который находился на пути в изгнание.
Еврейским актерам было запрещено выступать на немецкой сцене — по понедельникам синагога
становилась театром. Музыканты-евреи были уволены из немецких оркестров — по вторникам синагога
превращалась в симфонический зал. По средам — в оперу. В течение дня была школой, в которую
ходили еврейские дети, отчисленные из обычных немецких школ. Преподавали в синагогах те
профессора, художники и писатели, которые пытались выжить в новом мире. Неудивительно, что
известный пианист мог преподавать там музыку, признанный живописец — рисование. Современники и
исследователи отмечают, что именно еврейская школа, размещенная в синагоге, была на тот момент
самым безопасным местом для еврейского ребенка, а самым опасным — дорога домой и обратно.
Жительница Кёнигсберга, Нехама Дробер,
вспоминает, как ещё до «Хрустальной ночи» она училась в еврейской школе в одном классе с
девочкой, родители которой были так называемой «смешанной парой»: мать была еврейкой, отец —
немцем, а дочь была воспитана в еврейских традициях. В какой-то момент девочка перестала ходить
в школу, а учителя сказали, что ее семья вышла из немецкой общины.
“
Нам, детям, было трудно
понять, что рассказывала наша учительница. Лишь много позже, когда нашу школу
закрыли и евреев начали увозить в лагеря, мы поняли: отец Юты хотел уберечь свою
семью от самого худшего: супружеская пара Рудат считалась «смешанным браком»,
господин Рудат не был евреем, но все же обе его дочери были воспитаны в еврейских
традициях. Его жена была еврейкой из Польши. С тех пор как Юта снова пошла в
немецкую школу, она стала вести себя подло по отношению к нам. На улице она кричала
нам вслед «жидовки!». Однажды, когда я собралась идти с Рут Марвильски и Ритой
Иордан из школы домой, Юта вместе с тремя гитлерюгендовцами подкараулила нас и
избила. Мы рассказали об этом ее маме. Она лишь ответила, что больше не хочет иметь
никаких дел с евреями. После этого Рут и я подкараулили Юту, когда она была одна, и
побили ее.
По утрам понедельника в синагогах распределяли
социальную помощь. А кроме этого, с понедельника по среду здесь еще и проходили занятия по
обучению евреев так называемым «мобильным профессиям» ( к ним относились, например,
специальности сантехника, электрика, работника сельского хозяйства и так далее): такое обучение
было необходимо для тех, кто собирался эмигрировать. Один из исследователей отмечает, что
«синагога сохранилась также и как место, где читались молитвы, но молитвы приобрели новый смысл,
новую актуальность».
И, как и другие синагоги, эта не избежала своей печальной участи. В Кёнигсберге во время «Хрустальной ночи» нацисты проникли в Новую синагогу на Линденштрассе и заперлись внутри. Они осквернили Тору, оставшиеся свитки выбросили из окон на улицу, после этого подожгли купол синагоги.
Свидетельства очевидцев «Хрустальной ночи» в Кёнигсберге, членов еврейской общины, рассказывают, как «нацисты ворвались в синагогу, поломали скамейки, разорвали свитки Торы, порвали молитвенники, а затем сложили свои трофеи в одну кучу посередине помещения. В это время один из членов партии играл на органе песню Хорста Весселя , которая являлась нацистским гимном. Она звучала даже тогда, когда эта куча была охвачена пламенем. Стало тихо тогда, когда языки пламени достигли инструмента».
И, как и другие синагоги, эта не избежала своей печальной участи. В Кёнигсберге во время «Хрустальной ночи» нацисты проникли в Новую синагогу на Линденштрассе и заперлись внутри. Они осквернили Тору, оставшиеся свитки выбросили из окон на улицу, после этого подожгли купол синагоги.
Свидетельства очевидцев «Хрустальной ночи» в Кёнигсберге, членов еврейской общины, рассказывают, как «нацисты ворвались в синагогу, поломали скамейки, разорвали свитки Торы, порвали молитвенники, а затем сложили свои трофеи в одну кучу посередине помещения. В это время один из членов партии играл на органе песню Хорста Весселя , которая являлась нацистским гимном. Она звучала даже тогда, когда эта куча была охвачена пламенем. Стало тихо тогда, когда языки пламени достигли инструмента».
Из всех городских
синагог «Хрустальную ночь» пережила только одна — синагога ортодоксальной общины
«Адат Израэль». После этого богослужения общины совершались в ней и
велись до 1942 года. Последним раввином синагоги с 1 апреля 1936 был Йосеф
Дуннер. Но в августе 1944 года во время налёта британской авиации была
уничтожена и она.
После окончания Второй мировой войны еврейская
история теперь уже не в Кенигсберге, а в Калининграде стала историей умолчания. После войны
синагоги восстанавливали в Германии, так, например, Дрезденскую построили заново.
На месте же Новой синагоги в Калининграде построили цирк, здание бывшего сиротского приюта стало обыкновенным домом. В 2011 году Еврейская община Калининграда при поддержке Федерации еврейских общин и Российского еврейского конгресса, Фонда строительства Новой синагоги во главе с Владимиром Кацманом занялась восстановлением, а если быть точнее — строительством с нуля Новой синагоги на ее историческом месте — на бывшей Линденштрассе, которая сегодня называется улицей Октябрьской.
На месте же Новой синагоги в Калининграде построили цирк, здание бывшего сиротского приюта стало обыкновенным домом. В 2011 году Еврейская община Калининграда при поддержке Федерации еврейских общин и Российского еврейского конгресса, Фонда строительства Новой синагоги во главе с Владимиром Кацманом занялась восстановлением, а если быть точнее — строительством с нуля Новой синагоги на ее историческом месте — на бывшей Линденштрассе, которая сегодня называется улицей Октябрьской.
Восстановленная
Новая синагога максимально приближена к историческому облику той, что была уничтожена. Воссоздан
фасад, купол и основные помещения. Строительство синагоги на её прежнем месте показало, что
еврейская жизнь продолжается, несмотря на разные эпохи и время. Именно поэтому для религиозной части еврейской
общины всегда работают молитвенные залы, миква, брачное агентство, детский сад, школа и многое
другое. Отчасти это можно назвать данью памяти места, отчасти — восстановлением исторической
справедливости. И то и другое будет верным.
Возрождение Новой синагоги
1
16 октября 2011 года
Заложен первый камень в
восстановление синагоги
2
1 июня 2015 года
Выдано разрешение на
строительство синагоги в Калининграде
3
1 июня 2016 года
Подписан Меморандум о
сотрудничестве и взаимодействии по строительству синагоги
4
8 ноября 2018 года
Торжественное открытие Новой
синагоги в 80-ю годовщину «Хрустальной ночи»
Воспоминания жителей
Восточной Пруссии
о «Хрустальной ночи»
о «Хрустальной ночи»
Франц Кельтер
Директор еврейской школы, был
непосредственным свидетелем ноябрьского погрома
Детей подняли с
кроватей и выгнали в холодную ноябрьскую темноту. Погромщики вломились и в нашу квартиру.
— Моя квартира находилась
в еврейском сиротском доме, из пяти ее комнат три служили школьными
помещениями. Другое крыло здания сохранило свое первоначальное назначение —
приют для еврейских детей, большей частью из провинции.
После того как толпа атаковала и подожгла синагогу, она принялась за еврейский сиротский дом. Детей подняли с кроватей и выгнали в холодную ноябрьскую темноту. Погромщики вломились и в нашу квартиру.
Я сам с женой и грудным ребенком, как и другие жильцы дома, был выброшен на улицу. Напротив нас занимался пожар синагоги, и его пламя освещало ужасную картину полуодетых беззащитных детей, женщин и мужчин, пытавшихся обезопасить себя от бесчинствующих отморозков.
Все мужчины‑евреи были ранним утром, между пятью и шестью часами, взяты гестаповцами и доставлены сначала во двор Полицайпрезидиума, а потом в городскую тюрьму. В Восточной Пруссии не было концлагеря. Польское правительство требовало за каждый транзит заключенных через «данцигский коридор» в рейх определенную сумму, и благодаря этому своеобразному стечению обстоятельств все мы были спасены от ужасной участи депортации в концлагерь.
После того как толпа атаковала и подожгла синагогу, она принялась за еврейский сиротский дом. Детей подняли с кроватей и выгнали в холодную ноябрьскую темноту. Погромщики вломились и в нашу квартиру.
Я сам с женой и грудным ребенком, как и другие жильцы дома, был выброшен на улицу. Напротив нас занимался пожар синагоги, и его пламя освещало ужасную картину полуодетых беззащитных детей, женщин и мужчин, пытавшихся обезопасить себя от бесчинствующих отморозков.
Все мужчины‑евреи были ранним утром, между пятью и шестью часами, взяты гестаповцами и доставлены сначала во двор Полицайпрезидиума, а потом в городскую тюрьму. В Восточной Пруссии не было концлагеря. Польское правительство требовало за каждый транзит заключенных через «данцигский коридор» в рейх определенную сумму, и благодаря этому своеобразному стечению обстоятельств все мы были спасены от ужасной участи депортации в концлагерь.
Нехама Дробер
Жительница Кёнигсберга
Целое утро люди
шли со своим багажом к месту сбора у Северного вокзала. Их отправляли в товарных вагонах —
куда? — никто не знал.
— Я родилась 17 августа
1927 года в Кенигсберге, жила с родителями. В 1933 году к власти пришел Гитлер.
Мне было шесть лет, и я не понимала, что вокруг нас творится, но когда пошла в школу, хорошо почувствовала «новые веяния». В 1934 году в первом классе немецкой школы девочки не хотели со мной дружить и уже тогда обзывали еврейкой. Вскоре еврейским детям было запрещено ходить в немецкие школы. Еврейская община выделила в большой Новой синагоге по улице Линденштрассе (сейчас Октябрьская) четыре класса. Через год их было уже больше. 29 апреля 1935 года открылась еврейская школа.
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года был погром, потом он вошел в историю под названием «Хрустальная ночь». Мы жили на Вайдендамм, сейчас это тоже улица Октябрьская. Из нашего окна было видно, как горит синагога. Мы слышали крики детей, которых выгнали в ночных рубашках на улицу из стоявшего рядом еврейского сиротского дома. Он стоит и сейчас — это единственный дом по Линденштрассе, уцелевший в войну.
Хозяин дома, где мы жили, состоял в СА. Он со своими людьми арестовал в ту ночь моего отца (через несколько дней его отпустили). Нам приказали перейти в пятикомнатную квартиру по улице Форштеенде Лангассе (сейчас — Ленинский проспект). Пять семей, по комнате на семью, кухня общая, но другого выхода не было, и мы переехали в это, можно сказать, маленькое гетто.
После разгрома синагоги для нашей школы выделили несколько классов в сиротском доме. В 1942 году школу закрыли, а дом отдали гестапо. Когда сносили сгоревшую синагогу, не обошлось без динамита, и стена соседнего дома треснула от взрыва. В этом доме (Линденштрассе, 16) нас поселили с семьей Шефтолович. Мы жили тут с осени 1942 до бомбежки 30 августа 1944 года.
На месте синагоги построили деревянные бараки. Из гетто и лагерей Польши привезли сапожников и портных, столяров и слесарей работать на гестаповцев. В это время мы уже жили на Линденштрассе, на втором этаже, и в окно видели этих людей, видели, как с ними обращались. Они говорили на идиш, а так как немецкий похож на идиш, мы понимали их, общались, тайком бросали им еду через забор. По-видимому, это заметили и забор сделали выше. Один из тех, кто был за забором — красивый парень с черными кудрями, Моше или Мориц, другой был намного старше, сапожник, его звали Хаим Вайцман, имена остальных не помню. Говорили, что всех расстреляли перед приходом Красной Армии.
В январе 1939 года всем евреям выдали удостоверения (Kennkarte) с большой черной буквой J («Jude») на обложке, с фотографией в профиль — чтоб было видно левое ухо, с отпечатками пальцев и с дополнительным именем: у женщин Сара, у мужчин Израиль. Этот документ надо было всегда иметь при себе. Той же весной отец поехал в Гамбург за билетами на пароход, мы хотели уехать из Германии. Все места третьего класса были проданы, на второй класс не хватило денег. Отец просил своего брата Артура помочь нам деньгами и предлагал ему уехать вместе. Но дядя Артур, его жена Анна и ее родители Штернштейн не хотели покидать Германию и нас отговорили. Тогда еще никто не знал и не поверил бы, что может случиться в такой цивилизованной стране. Дядя Артур и его семья были отправлены первым транспортом, который ушел 24 июня 1942 года.
В 1942 году закрыли нашу школу и нас послали на принудительные работы — на химическую фабрику «Гамм и сын». Там работало больше школьников, чем взрослых, и нас использовали на самой тяжелой и грязной работе по 10 часов в день. Заведующий производством Тойбер всегда ругал нас, но позже мы поняли, что он не такой плохой человек. Из гестапо приходили проверять, как мы работаем, все ли на месте. Нарочно спрашивали, как зовут, и не дай Бог забыть добавочное имя Сара. После первого транспорта в июне 1942-го цех опустел, но быстро набрали других людей. Михаэль Вик, с которым я училась в одном классе, тоже попал на фабрику «Гамм и сын». Мы опять встретились.
С 19 сентября 1941 года всем немецким евреям было приказано носить на левой стороне груди желтые звезды с большой черной надписью «JUDE» — еврей. Нам запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать кинотеатры, выходить на улицу после восьми часов вечера. Появились надписи, что цыганам и евреям не разрешается входить в тот или иной магазин: «Juden und Zigeuner nicht erwuensсht». На входной двери в нашу квартиру тоже была наклеена звезда с надписью «JUDE». Неевреи не имели права заходить в эту квартиру. С начала войны всем выдавали карточки на продукты и на одежду. Евреям — только на продукты, и на них мелким шрифтом было написано «jude.jude.jude...».
24 июня 1942 года отправили первый большой транспорт с евреями из Кенигсберга. Целое утро люди шли со своим багажом к месту сбора у Северного вокзала. Их отправляли в товарных вагонах — куда? — никто не знал. В этом транспорте были наши близкие, друзья моих родителей, наши учителя Эрлебахер и Розенберг, Роза Вольф, Кэти Хиллер, мои лучшие подруги Рита Иордан и Рут Марвильски и много других из нашей школы. Осенью 1942 был второй транспорт, туда попала сестра моего отца, тетя Ревекка — мы называли ее Рика — и учительница Герта Тройхерц с грудным ребенком. День был солнечный, но холодный, ребенок все время плакал, и мы ничем не могли помочь. Гестаповцы грозились отправить нас вместе со всеми, если не уйдем — пришлось отойти. Мы стояли и смотрели издали, еще не зная, что видим наших близких в последний раз. Этот транспорт ушел с товарной станции Южного вокзала. Все братья и сестры моего отца погибли в лагерях смерти.
В Кенигсберге почти не осталось евреев. Мы, молодежь — кто оставался — держались вместе. По воскресеньям собирались у Эрни Мендельсона, другой раз у Рихарда Задиса, потом у нас, у Инны Цвильски, у Олафа Бенхейма, у Фиты Павловски, у Инги Штрель, у Михаэля Вика. Мы боялись думать, кого отправят следующим. На большой транспорт не набиралось людей, и отправляли маленькими группами в Берлин, а оттуда в Освенцим, Дахау, Треблинку, Терезиенштадт. Мою подругу Ингу Штрель и ее мать отправили в апреле 1943 года в Терезиенштадт. Они выжили. Инга живет в Германии, в Бад Ольдесло, ее мать умерла в 1970 году, она похоронена в Гамбурге на еврейском кладбище, где и мой отец.
Мне было шесть лет, и я не понимала, что вокруг нас творится, но когда пошла в школу, хорошо почувствовала «новые веяния». В 1934 году в первом классе немецкой школы девочки не хотели со мной дружить и уже тогда обзывали еврейкой. Вскоре еврейским детям было запрещено ходить в немецкие школы. Еврейская община выделила в большой Новой синагоге по улице Линденштрассе (сейчас Октябрьская) четыре класса. Через год их было уже больше. 29 апреля 1935 года открылась еврейская школа.
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года был погром, потом он вошел в историю под названием «Хрустальная ночь». Мы жили на Вайдендамм, сейчас это тоже улица Октябрьская. Из нашего окна было видно, как горит синагога. Мы слышали крики детей, которых выгнали в ночных рубашках на улицу из стоявшего рядом еврейского сиротского дома. Он стоит и сейчас — это единственный дом по Линденштрассе, уцелевший в войну.
Хозяин дома, где мы жили, состоял в СА. Он со своими людьми арестовал в ту ночь моего отца (через несколько дней его отпустили). Нам приказали перейти в пятикомнатную квартиру по улице Форштеенде Лангассе (сейчас — Ленинский проспект). Пять семей, по комнате на семью, кухня общая, но другого выхода не было, и мы переехали в это, можно сказать, маленькое гетто.
После разгрома синагоги для нашей школы выделили несколько классов в сиротском доме. В 1942 году школу закрыли, а дом отдали гестапо. Когда сносили сгоревшую синагогу, не обошлось без динамита, и стена соседнего дома треснула от взрыва. В этом доме (Линденштрассе, 16) нас поселили с семьей Шефтолович. Мы жили тут с осени 1942 до бомбежки 30 августа 1944 года.
На месте синагоги построили деревянные бараки. Из гетто и лагерей Польши привезли сапожников и портных, столяров и слесарей работать на гестаповцев. В это время мы уже жили на Линденштрассе, на втором этаже, и в окно видели этих людей, видели, как с ними обращались. Они говорили на идиш, а так как немецкий похож на идиш, мы понимали их, общались, тайком бросали им еду через забор. По-видимому, это заметили и забор сделали выше. Один из тех, кто был за забором — красивый парень с черными кудрями, Моше или Мориц, другой был намного старше, сапожник, его звали Хаим Вайцман, имена остальных не помню. Говорили, что всех расстреляли перед приходом Красной Армии.
В январе 1939 года всем евреям выдали удостоверения (Kennkarte) с большой черной буквой J («Jude») на обложке, с фотографией в профиль — чтоб было видно левое ухо, с отпечатками пальцев и с дополнительным именем: у женщин Сара, у мужчин Израиль. Этот документ надо было всегда иметь при себе. Той же весной отец поехал в Гамбург за билетами на пароход, мы хотели уехать из Германии. Все места третьего класса были проданы, на второй класс не хватило денег. Отец просил своего брата Артура помочь нам деньгами и предлагал ему уехать вместе. Но дядя Артур, его жена Анна и ее родители Штернштейн не хотели покидать Германию и нас отговорили. Тогда еще никто не знал и не поверил бы, что может случиться в такой цивилизованной стране. Дядя Артур и его семья были отправлены первым транспортом, который ушел 24 июня 1942 года.
В 1942 году закрыли нашу школу и нас послали на принудительные работы — на химическую фабрику «Гамм и сын». Там работало больше школьников, чем взрослых, и нас использовали на самой тяжелой и грязной работе по 10 часов в день. Заведующий производством Тойбер всегда ругал нас, но позже мы поняли, что он не такой плохой человек. Из гестапо приходили проверять, как мы работаем, все ли на месте. Нарочно спрашивали, как зовут, и не дай Бог забыть добавочное имя Сара. После первого транспорта в июне 1942-го цех опустел, но быстро набрали других людей. Михаэль Вик, с которым я училась в одном классе, тоже попал на фабрику «Гамм и сын». Мы опять встретились.
С 19 сентября 1941 года всем немецким евреям было приказано носить на левой стороне груди желтые звезды с большой черной надписью «JUDE» — еврей. Нам запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать кинотеатры, выходить на улицу после восьми часов вечера. Появились надписи, что цыганам и евреям не разрешается входить в тот или иной магазин: «Juden und Zigeuner nicht erwuensсht». На входной двери в нашу квартиру тоже была наклеена звезда с надписью «JUDE». Неевреи не имели права заходить в эту квартиру. С начала войны всем выдавали карточки на продукты и на одежду. Евреям — только на продукты, и на них мелким шрифтом было написано «jude.jude.jude...».
24 июня 1942 года отправили первый большой транспорт с евреями из Кенигсберга. Целое утро люди шли со своим багажом к месту сбора у Северного вокзала. Их отправляли в товарных вагонах — куда? — никто не знал. В этом транспорте были наши близкие, друзья моих родителей, наши учителя Эрлебахер и Розенберг, Роза Вольф, Кэти Хиллер, мои лучшие подруги Рита Иордан и Рут Марвильски и много других из нашей школы. Осенью 1942 был второй транспорт, туда попала сестра моего отца, тетя Ревекка — мы называли ее Рика — и учительница Герта Тройхерц с грудным ребенком. День был солнечный, но холодный, ребенок все время плакал, и мы ничем не могли помочь. Гестаповцы грозились отправить нас вместе со всеми, если не уйдем — пришлось отойти. Мы стояли и смотрели издали, еще не зная, что видим наших близких в последний раз. Этот транспорт ушел с товарной станции Южного вокзала. Все братья и сестры моего отца погибли в лагерях смерти.
В Кенигсберге почти не осталось евреев. Мы, молодежь — кто оставался — держались вместе. По воскресеньям собирались у Эрни Мендельсона, другой раз у Рихарда Задиса, потом у нас, у Инны Цвильски, у Олафа Бенхейма, у Фиты Павловски, у Инги Штрель, у Михаэля Вика. Мы боялись думать, кого отправят следующим. На большой транспорт не набиралось людей, и отправляли маленькими группами в Берлин, а оттуда в Освенцим, Дахау, Треблинку, Терезиенштадт. Мою подругу Ингу Штрель и ее мать отправили в апреле 1943 года в Терезиенштадт. Они выжили. Инга живет в Германии, в Бад Ольдесло, ее мать умерла в 1970 году, она похоронена в Гамбурге на еврейском кладбище, где и мой отец.
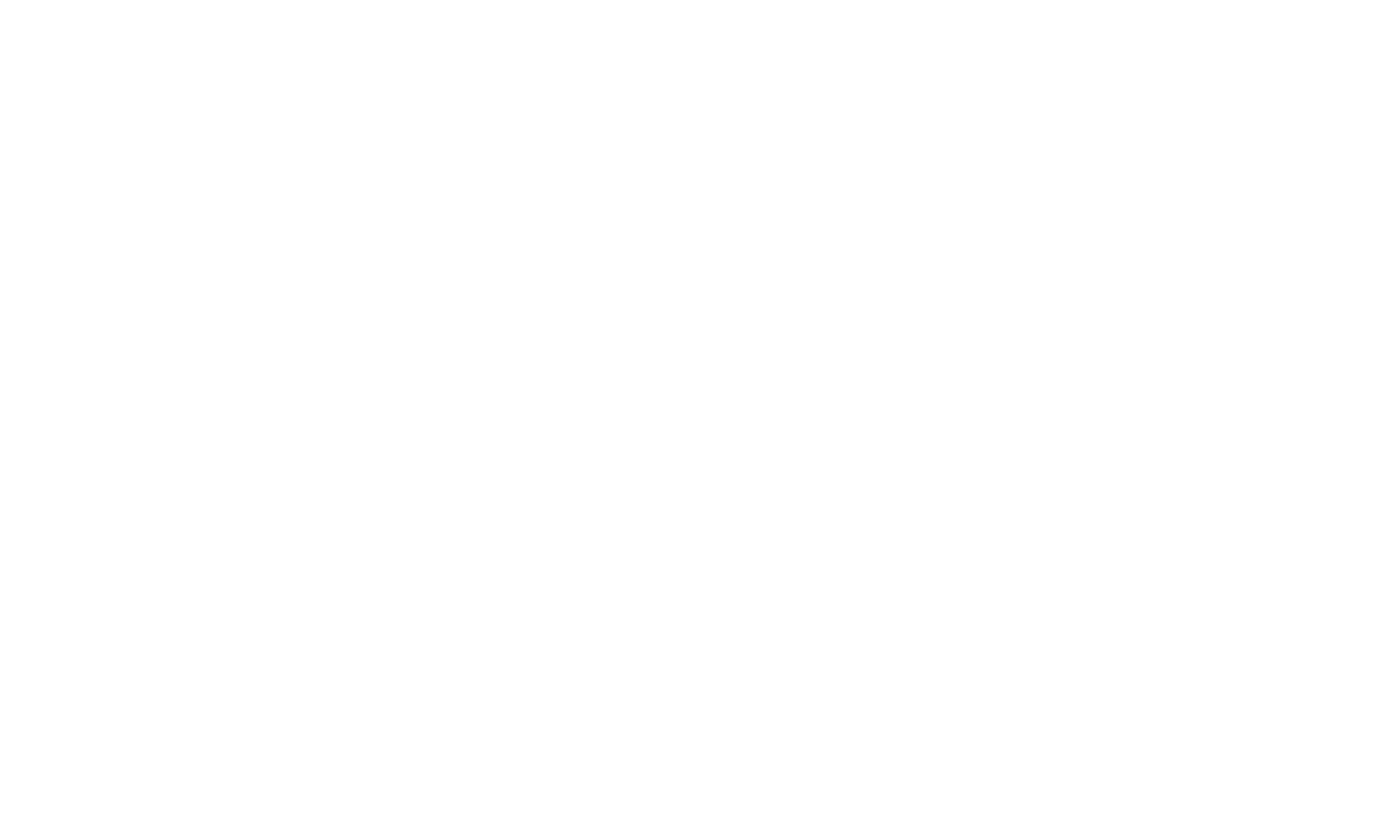
Людвиг Гольдштейн
Житель Кёнигсберга, был известным
журналистом
Тщательно
спланированное нападение на синагогу началось около двух часов и должно было и здесь и в
других местах послужить сигналом к всеобщему «восстанию».
— В эту ночь, вопреки
наступлению моего 71-го дня рождения, я бесхитростно задремал. Однако вскоре
после пробуждения я услышал о масштабных погромах еврейских магазинов.
В течение четверти часа я поехал в пригород, и у меня сложилось впечатление, что (было ли тому причиной существование точного списка или наличие четкого руководства) почти каждое заведение, принадлежавшее евреям, подверглось нападению. Двери были взломаны или разрушены, витрины разбиты, стойки с остатками товаров вышвырнуты на тротуары, почти на проезжую часть, внутреннее убранство и сами товары перерыты и уничтожены, часть из них сожжена. Естественно, хотя и не везде, а позже повсеместно громители прихватывали с собой разграбленные вещи. Обручальные кольца, украшения, часы и тому подобное можно было еще долгое время почти даром купить «с рук», если определенные люди не предпочитали спрятать их от глаз всего мира в свой «секретный сейф».
Переходя Кеттельбрюкке, я случайно обратил внимание на купол Новой синагоги. Он выглядел как-то особенно, слишком воздушно. При более пристальном взгляде можно было понять, что стоят только железные решетки. Неужели там проводится реставрация? Но об этом никто ничего не слышал! Неужели…? Но это было бы невозможно! Однако словечко «невозможно», которое когда-то часто произносилось с гордостью, отсутствует в словаре национал-социализма.
Я поспешил туда и удостоверился: недопустимое здесь стало явью, здесь творится неописуемое. Возведенное в период с 1894 по 96 г. шикарное здание лежит в руинах, насколько это возможно сделать в отношении каменного строения с помощью искусно разведенного огня. Возвышавшийся на высоте 46 метров огромный купол позволяет теперь в пятьдесят окошек увидеть голубое небо; лишь поддерживаемые львами каменные таблицы законов придают еще привычный смысл земной власти.
Тщательно спланированное нападение на синагогу началось около двух часов и должно было и здесь и в других местах послужить сигналом к всеобщему «восстанию». Согласно распространившейся информации, внутри было разрушено все, что только возможно. Там, где стоял ковчег, работали ломом, скорее всего, подозревая, что здесь хранятся «сокровища». Скамьи были опрокинуты, свитки Торы сброшены на пол. Пресекались любые попытки потушить огонь, следили лишь за тем, чтобы он не нанес ущерба соседним строениям.
В то время как одна пожарная команда, вооруженная лучшим оборудованием, вошла в здание, другая тщательно огородила место действия, чтобы никто не мог помешать радостному празднику солнцестояния. В других случаях подобные ограждения создаются, чтобы можно было без помех тушить пожар, здесь же — чтобы можно было без помех поджечь («народный гнев»).
Первоначальные планы, что можно сделать со столь внезапно реквизированным храмом, не реализовались. Было принято решение просто его снести. 26 апреля 1939 г. торговцы выставили на продажу «1 000 000 безупречных кирпичей, очень ценный орган, черные створки и многое другое». Однако стены были столь прочны, что в декабре 39 потребовались повторные взрывы для их разрушения. Там, где когда-то стояла синагога, в будущем следовало проложить соединительные улочки. В прессе прозвучало удовлетворенное выражение, что «ничего больше не напоминает об этом мерзком здании».
Кроме того, жертвой разгула пал прилегающий к зданию синагоги израилитский приют для сирот, столь завораживающе спроектированный берлинским архитектором Берендтом. Размещенные там дети были глубокой ночью вырваны из сна ворвавшимися внутрь бандами и созданным ими шумом и бегали, до смерти напуганные и почти раздетые, без обуви, в одних только сорочках по улице до тех пор, пока не нашли свое временное убежище у известных им еврейских женщин.
В течение четверти часа я поехал в пригород, и у меня сложилось впечатление, что (было ли тому причиной существование точного списка или наличие четкого руководства) почти каждое заведение, принадлежавшее евреям, подверглось нападению. Двери были взломаны или разрушены, витрины разбиты, стойки с остатками товаров вышвырнуты на тротуары, почти на проезжую часть, внутреннее убранство и сами товары перерыты и уничтожены, часть из них сожжена. Естественно, хотя и не везде, а позже повсеместно громители прихватывали с собой разграбленные вещи. Обручальные кольца, украшения, часы и тому подобное можно было еще долгое время почти даром купить «с рук», если определенные люди не предпочитали спрятать их от глаз всего мира в свой «секретный сейф».
Переходя Кеттельбрюкке, я случайно обратил внимание на купол Новой синагоги. Он выглядел как-то особенно, слишком воздушно. При более пристальном взгляде можно было понять, что стоят только железные решетки. Неужели там проводится реставрация? Но об этом никто ничего не слышал! Неужели…? Но это было бы невозможно! Однако словечко «невозможно», которое когда-то часто произносилось с гордостью, отсутствует в словаре национал-социализма.
Я поспешил туда и удостоверился: недопустимое здесь стало явью, здесь творится неописуемое. Возведенное в период с 1894 по 96 г. шикарное здание лежит в руинах, насколько это возможно сделать в отношении каменного строения с помощью искусно разведенного огня. Возвышавшийся на высоте 46 метров огромный купол позволяет теперь в пятьдесят окошек увидеть голубое небо; лишь поддерживаемые львами каменные таблицы законов придают еще привычный смысл земной власти.
Тщательно спланированное нападение на синагогу началось около двух часов и должно было и здесь и в других местах послужить сигналом к всеобщему «восстанию». Согласно распространившейся информации, внутри было разрушено все, что только возможно. Там, где стоял ковчег, работали ломом, скорее всего, подозревая, что здесь хранятся «сокровища». Скамьи были опрокинуты, свитки Торы сброшены на пол. Пресекались любые попытки потушить огонь, следили лишь за тем, чтобы он не нанес ущерба соседним строениям.
В то время как одна пожарная команда, вооруженная лучшим оборудованием, вошла в здание, другая тщательно огородила место действия, чтобы никто не мог помешать радостному празднику солнцестояния. В других случаях подобные ограждения создаются, чтобы можно было без помех тушить пожар, здесь же — чтобы можно было без помех поджечь («народный гнев»).
Первоначальные планы, что можно сделать со столь внезапно реквизированным храмом, не реализовались. Было принято решение просто его снести. 26 апреля 1939 г. торговцы выставили на продажу «1 000 000 безупречных кирпичей, очень ценный орган, черные створки и многое другое». Однако стены были столь прочны, что в декабре 39 потребовались повторные взрывы для их разрушения. Там, где когда-то стояла синагога, в будущем следовало проложить соединительные улочки. В прессе прозвучало удовлетворенное выражение, что «ничего больше не напоминает об этом мерзком здании».
Кроме того, жертвой разгула пал прилегающий к зданию синагоги израилитский приют для сирот, столь завораживающе спроектированный берлинским архитектором Берендтом. Размещенные там дети были глубокой ночью вырваны из сна ворвавшимися внутрь бандами и созданным ими шумом и бегали, до смерти напуганные и почти раздетые, без обуви, в одних только сорочках по улице до тех пор, пока не нашли свое временное убежище у известных им еврейских женщин.
Аба Дуннер
Сын последнего раввина
Кенигсберга Йосефа Дуннера
Отец подошел к
киоску, чтобы купить сигареты, и продавец, поглядев на него, закричал: «Да что ты себе
позволяешь!» — и плюнул раввину в лицо.
— Я родился в Кёнигсберге
в ноябре 1937 года. Моя мама, Ида Дуннер, была родом из Бреслау, сейчас это
польский город Вроцлав. В семье я был первенцем.
Вечером 9 ноября 1938 года мой отец возвращался домой после молитвы с двумя членами общины, и они обратили внимание на полную тишину. Улица была пустынна, будто все уехали. Казалось, что-то должно случиться. Отец вошел в свою квартиру на Викториаштрассе и запер дверь. В полночь он проснулся от звона разбитого стекла и сильного шума на улице. Отец выпрыгнул из постели, мама бросилась ко мне: я оказался засыпан осколками стекла, потому что моя кроватка стояла прямо под окном.
Раздался громкий стук в дверь и крики, требовавшие немедленно отворить. Отец открыл дверь двум одетым в черное нацистам. Они пришли арестовать отца и кричали, чтобы он собирался. Отцу не позволили зайти в туалет, следили за тем, как он одевается на глазах у испуганной жены. Они повели его мимо его синагоги «Адат Израэль» по улице Синагогенштрассе. Вдоль дороги стояли сотни людей, которые яростно швыряли в огонь еврейские молитвенники — сидуры и свитки Торы. Пока отца вели по улице, эти люди смеялись и глумились над ним.
Один из руководителей либеральной общины сказал отцу: «Я понимаю, почему они набросились на вас, вы носите бороду, пейсы, черный лапсердак. Но мы же ничем не отличаемся от окружающих, мы — немецкие граждане моисеевой веры». Увы, этот человек не понимал или понял слишком поздно, что различия в мыслях или в облике евреев мало интересуют антисемитов.
Через месяц отец вышел из тюрьмы. Он шел по улицам Кенигсберга без бороды, ее сбрили тюремщики. Отец подошел к киоску, чтобы купить сигареты, и продавец, поглядев на него, закричал: «Да что ты себе позволяешь!» — и плюнул раввину в лицо. Это убедило отца в том, что мы должны оставить город как можно быстрее.
Вечером 9 ноября 1938 года мой отец возвращался домой после молитвы с двумя членами общины, и они обратили внимание на полную тишину. Улица была пустынна, будто все уехали. Казалось, что-то должно случиться. Отец вошел в свою квартиру на Викториаштрассе и запер дверь. В полночь он проснулся от звона разбитого стекла и сильного шума на улице. Отец выпрыгнул из постели, мама бросилась ко мне: я оказался засыпан осколками стекла, потому что моя кроватка стояла прямо под окном.
Раздался громкий стук в дверь и крики, требовавшие немедленно отворить. Отец открыл дверь двум одетым в черное нацистам. Они пришли арестовать отца и кричали, чтобы он собирался. Отцу не позволили зайти в туалет, следили за тем, как он одевается на глазах у испуганной жены. Они повели его мимо его синагоги «Адат Израэль» по улице Синагогенштрассе. Вдоль дороги стояли сотни людей, которые яростно швыряли в огонь еврейские молитвенники — сидуры и свитки Торы. Пока отца вели по улице, эти люди смеялись и глумились над ним.
Один из руководителей либеральной общины сказал отцу: «Я понимаю, почему они набросились на вас, вы носите бороду, пейсы, черный лапсердак. Но мы же ничем не отличаемся от окружающих, мы — немецкие граждане моисеевой веры». Увы, этот человек не понимал или понял слишком поздно, что различия в мыслях или в облике евреев мало интересуют антисемитов.
Через месяц отец вышел из тюрьмы. Он шел по улицам Кенигсберга без бороды, ее сбрили тюремщики. Отец подошел к киоску, чтобы купить сигареты, и продавец, поглядев на него, закричал: «Да что ты себе позволяешь!» — и плюнул раввину в лицо. Это убедило отца в том, что мы должны оставить город как можно быстрее.
В спецпроекте использованы материалы из фильма «Еврейский город Кёнигсберг», сборника докладов «В отблеске „Хрустальной ночи": еврейская община Кёнигсберга, преследование и спасение евреев Европы. Материалы 8-й Международной конференции „Уроки Холокоста и современная Россия"», книги «Теперь меня зовут Нехама» (автор Нехама Дробер).