«...Для меня университет — это Калининград, а
Калининград — это университет. И хотелось бы, чтобы в головах всех россиян Калининград в
значительной степени ассоциировался с БФУ имени И.Канта. Это огромный потенциал как для
университета, так и для города, региона».
Альбина Краснощекова
Генеральный директор ООО «Издательство Страна»
(газеты «Страна Калининград», «АиФ-Калининград»).
Окончила филологический факультет КГУ в 1995 году с дипломом филолога, преподавателя русского языка и литературы.
Окончила филологический факультет КГУ в 1995 году с дипломом филолога, преподавателя русского языка и литературы.
У меня были серьёзные планы по «захвату
мира». Мама — полиграфист, директор типографии, я выросла там, под печатной
машиной. Так что сначала я поступала в полиграфический институт, потом — в МГУ на журналистику.
Но ЕГЭ тогда не было, а с четвёрками туда не брали. Да и с пятёрками пробиться было невозможно.
В начале девяностых филология была популярным направлением. Народ шёл с довольно странной мотивацией: одна девушка поступала вместе со мной после медучилища и говорила: иду на филологию, потому что латынь знаю. Но преподаватели подчёркивали: самое важное — чувствовать язык, чувствовать слово.
Я получила в университете базу и вектор дальнейшего развития. Потом было и другое образование — Калининградский институт международного бизнеса, менеджерские программы. Но фундамент был крепкий.
Мы даже не осознавали, как нам повезло с преподавателями. Фундаментальная советская школа тогда соединилась с запахом свободы, близостью внезапно открывшейся Европы. Роза Васильевна Алимпиева, Наталья Григорьевна Бабенко, Алексей Захарович Дмитровский — это настоящие столпы филологии.
Мы читали. Мы очень много читали. Сидели в библиотеках, со стопками книг, и читали, читали, читали. Я прочитала всё — не пропустила ни одной книги из программы. Но научили нас тому, чему даже сегодня не всегда учат журналистов: логике. Складывать факты в логические цепочки.
Я защищала диплом по Довлатову. Это была совсем новая литература, с одной стороны, достаточно лёгкая, с другой — полная смыслов. Всё это стало возможно благодаря тому, что в начале девяностых в КГУ уже пришли новые, молодые преподаватели — со «старой гвардией» такое вряд ли бы могло случиться.
В начале девяностых филология была популярным направлением. Народ шёл с довольно странной мотивацией: одна девушка поступала вместе со мной после медучилища и говорила: иду на филологию, потому что латынь знаю. Но преподаватели подчёркивали: самое важное — чувствовать язык, чувствовать слово.
Я получила в университете базу и вектор дальнейшего развития. Потом было и другое образование — Калининградский институт международного бизнеса, менеджерские программы. Но фундамент был крепкий.
Мы даже не осознавали, как нам повезло с преподавателями. Фундаментальная советская школа тогда соединилась с запахом свободы, близостью внезапно открывшейся Европы. Роза Васильевна Алимпиева, Наталья Григорьевна Бабенко, Алексей Захарович Дмитровский — это настоящие столпы филологии.
Мы читали. Мы очень много читали. Сидели в библиотеках, со стопками книг, и читали, читали, читали. Я прочитала всё — не пропустила ни одной книги из программы. Но научили нас тому, чему даже сегодня не всегда учат журналистов: логике. Складывать факты в логические цепочки.
Я защищала диплом по Довлатову. Это была совсем новая литература, с одной стороны, достаточно лёгкая, с другой — полная смыслов. Всё это стало возможно благодаря тому, что в начале девяностых в КГУ уже пришли новые, молодые преподаватели — со «старой гвардией» такое вряд ли бы могло случиться.

Медиацентр БФУ им. И. Канта.
Базовая подготовка остаётся в БФУ имени И.Канта
на высоком уровне. Да и студенты оставляют в большинстве своём хорошее впечатление.
Я постоянно участвую в работе приёмной комиссии на медианаправлении, принимаю участие в защите
дипломов. Есть те, кто взял всё от программы, есть те, кто пробежал «по верхам», а кто-то вообще
всему сам научился. Так всегда бывает — но база остаётся традиционно высокой.
Сегодня университет старается успеть за временем. Участие в программе «5-100» — настоящее чудо для БФУ имени И.Канта. И то, что одно из трёх направлений в заявке университета на участие в программе предполагает развитие гуманитарных направлений, это важно. И я очень хочу верить, что вуз идёт в ногу со временем.
Отличное направление, которое позволит плотнее связать город и университет, — образование для старшего поколения. Простые, понятные прикладные лекции: как сберечь пенсию, как укрепить здоровье, как разнообразить досуг. Люди старшего возраста у нас совершенно не заняты, это настоящее «потерянное поколение» с точки зрения вовлечения их в общественную жизнь. Но ведь оно влияет на жизнь в семьях, сможет объяснить внуку, почему БФУ имени И.Канта — это на самом деле круто.
Сегодня университет старается успеть за временем. Участие в программе «5-100» — настоящее чудо для БФУ имени И.Канта. И то, что одно из трёх направлений в заявке университета на участие в программе предполагает развитие гуманитарных направлений, это важно. И я очень хочу верить, что вуз идёт в ногу со временем.
Отличное направление, которое позволит плотнее связать город и университет, — образование для старшего поколения. Простые, понятные прикладные лекции: как сберечь пенсию, как укрепить здоровье, как разнообразить досуг. Люди старшего возраста у нас совершенно не заняты, это настоящее «потерянное поколение» с точки зрения вовлечения их в общественную жизнь. Но ведь оно влияет на жизнь в семьях, сможет объяснить внуку, почему БФУ имени И.Канта — это на самом деле круто.
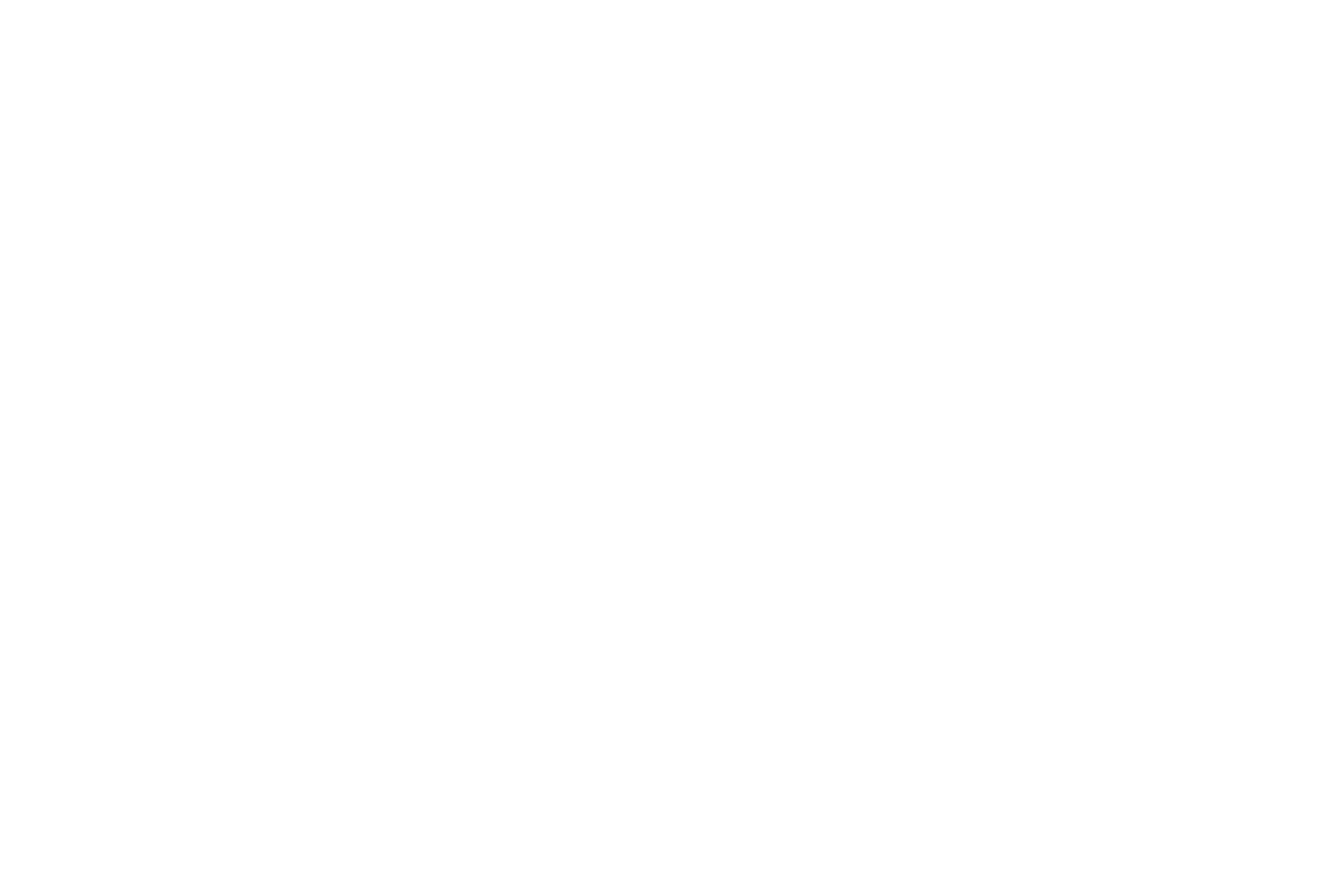
Медиацентр БФУ им. И.
Канта.
Публичные лекции в БФУ имени И.Канта — отличное
начинание. И не только с точки зрения повышения нашего культурного уровня. Хорошо,
что с лекциями приезжают в том числе и зарубежные учёные. Есть понятие народной дипломатии —
почему бы не быть и научной дипломатии?
Надеюсь, что связи университета с Европой не порушатся. Вне зависимости от того, что происходит сегодня в мире. Именно международные связи — это залог динамичного развития. Россия в этом смысле сейчас «притормозила»; если университет притормаживать не будет, то всё компенсируется.
Университетский город — это развитие. Это умные люди, задающие вопросы. Это правильное развитие. И это привлечение профессуры, новых людей, интеллектуалов. В предыдущий период БФУ имени И.Канта привлёк много высококлассных учёных-технарей. Хочется, чтобы вслед за ними сюда приехали жить и работать гуманитарии.
Для меня университет — это Калининград, а Калининград — это университет. И хотелось бы, чтобы в головах всех россиян Калининград в значительной степени ассоциировался с БФУ имени И.Канта. Это огромный потенциал как для университета, так и для города, региона. Что приходит в голову в первую очередь, когда слышишь такие названия, как Болонья, Оксфорд, Кембридж? Вот куда нужно стремиться.
Надеюсь, что связи университета с Европой не порушатся. Вне зависимости от того, что происходит сегодня в мире. Именно международные связи — это залог динамичного развития. Россия в этом смысле сейчас «притормозила»; если университет притормаживать не будет, то всё компенсируется.
Университетский город — это развитие. Это умные люди, задающие вопросы. Это правильное развитие. И это привлечение профессуры, новых людей, интеллектуалов. В предыдущий период БФУ имени И.Канта привлёк много высококлассных учёных-технарей. Хочется, чтобы вслед за ними сюда приехали жить и работать гуманитарии.
Для меня университет — это Калининград, а Калининград — это университет. И хотелось бы, чтобы в головах всех россиян Калининград в значительной степени ассоциировался с БФУ имени И.Канта. Это огромный потенциал как для университета, так и для города, региона. Что приходит в голову в первую очередь, когда слышишь такие названия, как Болонья, Оксфорд, Кембридж? Вот куда нужно стремиться.
©2017 «Новый
Калининград»/БФУ имени
И.Канта.
Текст, верстка — Алексей Милованов.
Фото — Виталий Невар.
Корректура — Оксана Шевченко.
Реклама.
Текст, верстка — Алексей Милованов.
Фото — Виталий Невар.
Корректура — Оксана Шевченко.
Реклама.